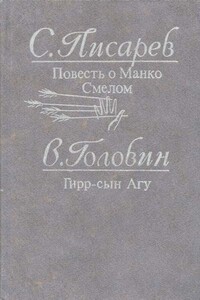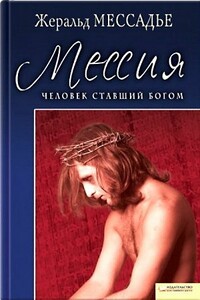Казак Дикун | страница 100
— На все Божья воля.
В пересортированных и перетасованных сотнях недоставало многих и многих походников. Уменьшенная их численность позволяла черноморцам знать друг друга не только в лицо, но и по фамилиям и именам.
В апрельском строевом списке личного состава своей усеченной сотни перед отбытием в Баку Федор Дикун значился одиннадцатым. Впереди него шли Никифор Чечик,
Иван Кулик и другие, десятым выкликался Андрей Штепа, а после Дикуна, одиннадцатого, назывались Матвей Щербаков, Лукьян Панасенко, Петр Артеменко, Семен Бескровный, Павел Ткачев, Степан Кравец, Семен Дубовской, Захар Костерин, Омелько Скляр, Федор Гаркуша и ряд иных казаков Екатеринодарского округа. Большинство из них вдоволь отведало лиха в Сальянском гарнизоне. Павел Ткачев, например, тяжко и долго хворал, еле вырвался из цепких лап смерти. А Федор Цимбал, Прокоп Терновский и некоторые другие казаки отдали здесь Богу душу ни за понюх табака.
Во время обратного морского рейса сблизился Федор Дикун с молодым односумом из Незамаевского куреня Осипом Шмалько. Высокий и статный хлопец настолько пообносился, что вынужден был, в меру своего умения, наложить грубые заплаты на свитку, а сапоги стянуть проволокой.
Расположившись на палубе бота рядом с Дикуном, он с издевкой и насмешкой потешался сам над собой и воинским начальством:
— Работал в лесу на заготовке фашин и топлива, как ломовая лошадь. Благо силенка есть. Кругом чертово дер- жи — дерево, весь оборвался. Надеялся новую обмундировку из походного цейхгауза получить. А там — пусто, шаром покати. Интенданты на черный рынок одежку и обувь пустили.
— А не преувеличиваешь?
— Сам видел в селении Кизилагачке, как один наш тыловой старшина из‑под полы сапоги продавал.
В Баку казаки устроили привал за городом. Весна своей солнечной погодой и ближайшая перспектива возвратиться к своим селениям и привычным занятиям скрашивали их хмарное настроение. Вести из дома приходили разные: то воодушевляющие, то, напротив, удручающие. То чума поражала людей, а то прокатилась волна эпизоотии (чихирь) среди крупного рогатого скота. В результате в селениях Кисляковском, Незамаевском, Васюринском и других было потеряно большое поголовье животных. На кордонах с иными из закубанских племен устанавливался более или менее сносный лад, а с другими, как, например, с шапсугами, абазинцами и абадзехами, общего языка не находилось, они продолжали совершать свои дерзкие набеги, уводить в неволю людей и выкрадывать скот из загонов и с пастбищ.