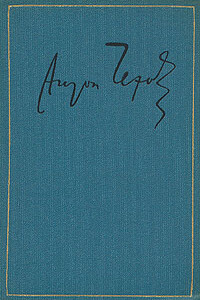В родных местах | страница 9
Свирелкин совсем ослабел, попробовал петь песни, но ничего не вышло, и он лег на полу спать. Было уже поздно. Ефим чувствовал, что его голова совсем отяжелела, и хата, где они сидели, начинала колыхаться и плавать вокруг него вместе с печью, полатями и лавками.
В ушах его рычал голос Шумова, ругавшегося отборно и со вкусом, и звенел голос Кочеткова в ответ на эти ругательства — тонко, метко и язвительно.
— Били тебя всем, Яков: и кольями, и жердями, и шкворнями… И ногами били… А ума тебе не прибавили… Не в то место, знать, попадали… Выросла дубина такая на мочежине… Стоерос!..
Толкачев вышел на двор и улегся под сараем.
Шумов и Кочетков продолжали шуметь и сквернословить в хате. Потом вышли на двор и подрались, но так как оба еле держались на ногах, то больше махали руками и падали. Ефим боялся, что их шум привлечет внимание полиции, — на ярмарке был сам заседатель, — и вышел их разнять. Кто-то из них ударил его сзади по шее. Тогда он развернулся и ударил Кочеткова. Кочетков как-то особенно быстро и отрывисто мотнул головой и потом, ухватившись за Шумова и увлекая его за собою, мягко уткнулся в землю.
Они поворочались немного и, упираясь руками друг в друга, попробовали встать, но не встали и ограничились несколькими крепкими ругательствами.
Ефим спокойно ушел под сарай и уснул.
Но через час, не больше, его разбудили.
— Этот самый? — говорил над ним громкий, начальственный голос.
— Самый этот, вашбродь… Так точно. Это — первый мошенник по округе! Бежавший из Сибири, например, да еще в морду норовит… Я, по крайней мере, служил и имею галуны, а какая-нибудь т-тварь…
Ефима арестовали. Он показал свидетельство Свирелкина. Но когда разыскали и растолкали настоящего Свирелкина, то Ефим заявил, что он вытащил документ у пьяного старика, и открыл свое настоящее имя.
III
Его препроводили к судебному следователю, а следователь, для удостоверения личности, отправил его под сильным конвоем в родную станицу.
Ефим вступил в нее поздно вечером, накануне праздника. Издали, в мечтах, она рисовалась ему прекрасной, уютной и ласковой, и к ней неудержимо рвалось его сердце. Но теперь он предпочел бы очутиться в тайге, чтобы снова мечтать о родине и по-новому предпринять путешествие домой. Не о «каталажке» он мечтал, не о той станичной тюрьме, из которой два раза убегал он еще «малолетком»… Он шел по станичным улицам, мягким, пыльным или поросшим травой, усеянным круглыми пышками коровьего помета. Улицы уже затихли, заснули, и их побеленные домики, облитые светом невысоко поднявшегося месяца, глядели на него, старого, тосковавшего о них станичника, своими раскрытыми окошками удивленно и кротко, а жидкий лунный свет мелькал приветливой улыбкой на их стеклах, когда он оглядывался на них, припоминая и угадывая. Тени от садиков, сараев и низких плетней ползли на середину дороги, смутные, неясно очерченные, кое-где перерезанные золотистыми полосами света.