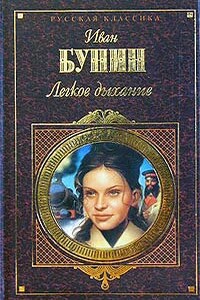Офицерша | страница 43
Звенела музыка в зеленом с красно-бурыми кистями просе. Бесчисленные турлучки тянули, перебивая друг друга, свою долгую, таинственно-мудрую, меланхолическую песню. Стрекотали еще в траве веселые, разбитные кузнечики, сверчки, бесшабашные музыканты…
И тихую задумчивость и грусть навевал облачный, тихий вечер. Думалось Гаврилу Юлюхину о загадочной жизни с трудовым круговоротом, страхами, заботами, потом и грязью, о молчащей степи и тайне скудных полей с желтыми жнивьями и редкими копнами… Вот к чему с такой нетерпеливой тоской всегда стремилось сердце с чужой стороны, — к этому тихому и бедному простору, к однообразной, убогой, как серая эта жизнь, песне сверчков…
Простор, а тесно живется тут… Коротки и скудны радости. Долга и щедра нужда, изнурителен труд…
XI
К Ивану Постному закончили молотьбу и вздохнули. Но не с облегчением, а с грустью. Пшеницы с двенадцати десятин не вышло и трехсот мер. Зерно было мелкое, щуплое, легкое. Рожь вышла не плоха, но ее мало было посеяно. Ячмень и просо тоже не порадовали.
Продать из такого урожая — явное дело — нечего. Дай Бог, чтобы хватило самим и скотине на год, а на одежду, на обувь, на расходы по дому — обходись чем хочешь. А тут еще подходил срок отдавать долг Букетову, — давал лишь до Покрова.
С Ивана Постного надо бы начинать пахать, но рабочей скотины было маловато. Было три быка — один старый, пара молодых, плохо выезженных, — старая кобыла Марфушка, лысый рыжий мерин да купленный в Алексеевской ярмарке буланый киргиз, норовистый и слепой на один глаз. Голов числом и не мало, а доброго ничего. Служивского Зальяна запрягать в плуг было жалко.
Много раз Макар заводил политический разговор с сыном офицером о том, что надо бы прикупить к пахоте парку бычков, а у Михайлина дня продать, — да вот обернуться нечем. Но Гаврил как-то холодно и безучастно относился к этому плану.
— Купить? что ж… купить, как говорится, вошь убить, продать — блоху поймать…
Но о деньгах совсем молчал. Притворялся, что не понимает, к чему заведен разговор. А кошелек свой, для хвастовства, по-прежнему таскал с собой по праздникам в кармане, вынимал при всяком случае, перебирал пальцами бумажки, серебро и медь, доставал какой-нибудь пятак на свечку или копейку ребятам на семечки и опять прятал, никому, даже жене, не открывая тайны о той сумме, которая в нем хранилась.
Наконец Макар решил бросить дипломатические тонкости и на Рождество Богородицы, между утреней и обедней, когда в горнице никого лишних не было, приступил к делу прямо: