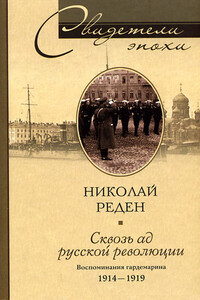Четвертое измерение | страница 54
— Как ты в «люди» вышел? — серьезно спрашиваю, не из простого любопытства.
Задумался, сжался как-то весь и начал цедить сквозь зубы:
— Ты, может, не поверишь, отец мой — большой партиец во Владивостоке. И семья у меня вполне была денежная. Воровать я пошел не из-за хлеба. Нет. Меня вранье замучило. Отец врал матери, мать — отцу, оба — мне. Я уже в 14 лет видел, что отец и мать ни в черта, ни в Бога, ни в коммунизм не верят. А во что верят? — в деньги! Свой партбилет отец называл «хлебной книжкой». Ну, а мне денег не давали, говорили «испортишься». Вот я и решил доказать им, что и без них проживу, и пошел к ворам — тут хоть без вранья!
— А как ты к политзаключенным попал?
— Это просто. Надоело мне таскаться по воровским штрафнякам: книг нет, говорить не с кем, решил перейти к «политикам». Взял лист бумаги, написал антисоветскую листовку и повесил ее в дверях кабинета «кума». Мне и дали 25 за антисоветскую агитацию.
— Агитировал, значит, оперуполномоченного? — засмеялся я.
— Выходит, так! — с улыбкой отозвался Володя. Кто-то из ребят предложил потребовать перевода из этого «санизолятора», где можно было только заболеть, куда-нибудь в другую камеру. Постучали в дверь, солдат никого позвать не захотел, но не тут-то было! Мы подняли такой стук, что и мертвый проснулся бы. Акустика тюрем не рассчитана на буйство: если из камеры бить по металлическим дверям, то в коридоре можно оглохнуть или сойти с ума от грохота. Пришел дежурный офицер. Оказалось, что он не кадровик, а недавно демобилизовавшийся офицер пехоты: говорить с ним было легче. Он понял нас, но объяснил, что перевести не сможет. А матрацы и одеяла пришлет. Вскоре появились матрацы и одеяла — страшная рвань. Но и это хорошо. Постелили мы матрацы, легли и... тут же очутились на железных полосах. Дело в том, что матрацные мешки были набиты не ватой или деревянной стружкой, как обычно в лагерях, а обрезками грубой кожи — отходами местного кожевенного комбината. Эти кусочки проваливались между полосами железа, и матрац «исчезал». Со скандалами и шумом мы промучались в этой холодной и сырой камере неделю и, наконец, нас перевели в «нормальные» камеры. Я попал в камеру, где сидел латыш Ян Тормавис и мой товарищ Станислав. Она была крохотная, всю ее занимали нары. Около двери оставался примерно метр площади, где стояла тумбочка для хранения кружек и хлеба и извечный спутник русских тюрем — «параша» — металлическое ведро с крышкой, «персональная уборная». Окно было высоко над потолком, крошечное и закрытое «намордником» — щитом, предохраняющим от возможности видеть, что делается во дворе.