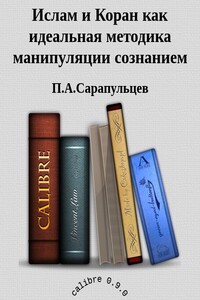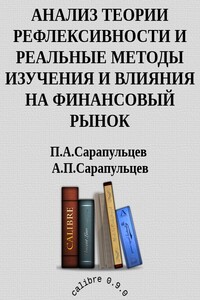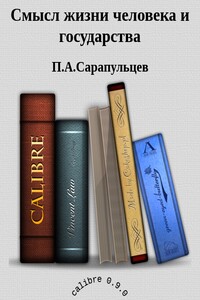Крах мультикультурализма | страница 9
Теперь попытаемся сравнить понятие культуры с понятием этноса. При первом взгляде эти понятие почти не отличаются друг от друга, поскольку этнос представляет собой “исторически сложившуюся на территории устойчивую межпоколенную совокупность людей, обладающих… относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований” (36). “Дополнительными условиями сложения этнической общности могут служить общность религии, близость компонентов этноса в расовом отношении”. Но ” при этом этнос может складываться и из разноязычных элементов” (37).
Пытаясь вычленить основной облигатный признак этноса, Л.Н. Гумилев счёл, что “вынести за скобки” можно лишь само признание этническим коллективом своего единства. Действительно без появления ощущения: “Мы такие-то, а все прочие другие (не мы)”, говорить о появлении этноса не приходится. Но есть ещё один не менее важный облигатный признак этноса - мораль, поскольку без системы, регулирующей отношения и предотвращающей бессмысленные конфликты, какой является только мораль (38), общество существовать не может. Тем более что именно “мораль возникает раньше других форм общественного сознания и… распространяется на всех членов коллектива” (39).
Казалось бы, вот она однотипность этноса и культуры. Однако прав был Козьма Прутков, когда говорил: “Если на клетке слона прочтёшь надпись “буйвол”, не верь глазам своим”. Ибо этнос имеет одну особенность, отличающую его от культуры: он не может не противопоставлять себя всем другим коллективам, поскольку члены его обязательно испытывает “неосознанную подсознательную взаимосимпатию” - “комплиментарность” по Л.Н. Гумилёву (40). Причём важно отметить, что сам принцип комплиментарности не относится к числу чисто социальных явлений, поскольку наблюдаетсяне только у людей, но и у животных.
Особенно ярко этот феномен проявляется в момент формирования нового этноса. При этом не играют роли ни разный уровень культуры, ни психологические особенности составляющих его людей, ибо при возникновении новой этнической целостности отсутствует принцип сознательного расчета и стремления к выгоде, поскольку только объединёнными усилиями первому поколению пассионариев удаётся “сломить устоявшиеся взаимоотношения, бытующие в это время в окружающей их среде” (40).
В дальнейшем образовавшийся этнос всегда “будет стремиться воспроизвести жизненный цикл предшествующего”, так как ему “невыгодно принять к с себе человека,.. отличающегося от соседей по быту, обычаям, религии и роду занятий”, поскольку “навыки, полученные в других условиях будут этносу не нужны, а значит, будут неприменимы”. Этот феномен (“традиция” по Л.Н. Гумилеву, “сигнальная наследственность” по М.Е. Лобашеву), заставляет членов этноса с раннего детства усваивать навыки быта, приемы мыслительной деятельности, восприятие предметов искусства, принятое обращение со старшими и отношения между полами, обеспечивая себе тем самым наилучшую адаптацию в своей среде. Именно сочетание феноменов традиции и эндогамии (стабилизирующей состав генофонда изоляции от соседей) Гумилев считал основным фактором создающим устойчивость любого этнического коллектива (40).