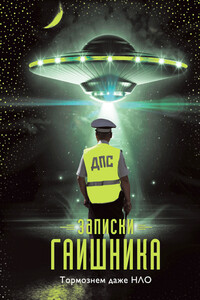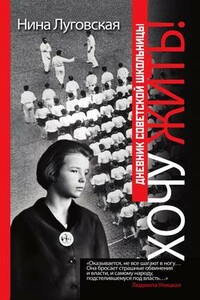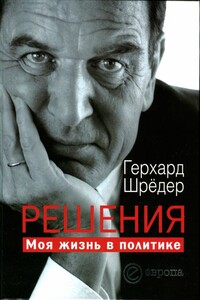Князь Андрей Волконский. Партитура жизни | страница 9
Эти десять дней были загружены работой до предела. Вставал Андрей Михайлович рано – в 5 или 6 часов. Около часа слушал музыку – Машо, Дюфаи, Окегема, Обрехта – своих любимых композиторов. Как-то он сказал нам: «Это для меня вместо утренней молитвы». А потом добавил: «Ну, не вместо…» На спинке кровати у него висели четки. Я вставал поздно – к завтраку выходил часов в девять-десять. А. М. «критически» приветствовал меня: «Добрый день», – подчеркивая слово «день». Он говорил в день часов по девять-десять. Хотел говорить только о Средневековье, но мы с Леной «наводили» его на менее любимый им XIX век, а о ХХ веке он часто начинал заговаривать сам. «Что вы меня спрашиваете о моих сочинениях? Мы делаем книгу о Машо, а не обо мне», – несколько раз восклицал он. Но мы спрашивали. И в конце нашего пребывания в Экс-ан-Провансе стало ясно, что все «лакуны», «белые пятна» в истории музыкального мышления человечества оказались им заполнены.
Андрей Михайлович выполнил свое желание, высказанное им в телефонном разговоре. Он нарисовал свою картину музыкального мира. Под нашим нажимом он «нарисовал» и автопортрет. Как вписывается этот автопортрет в панораму развития музыки за почти два тысячелетия? Андрей Михайлович не успел сделать выводов. Он хотел назвать книгу «Уроки прошлого», а выводы должны будут сделать читатели. За день до внезапной кончины композитора Елена Дубинец закончила расшифровку записей бесед. Прочесть и отредактировать их Андрею Михайловичу уже было не суждено.
Каким же он был, этот уникальный, загадочный, великий музыкант с такой сложной, можно даже сказать трагической, судьбой? О нем будет написано и сейчас уже пишется много воспоминаний. Множество его близких друзей (а он был очень общительным человеком) знают его гораздо лучше, чем я. Скажу лишь несколько слов о том, каким я его увидел.
Закрытым. Очень вежливым, гостеприимным, приветливым, но как бы воздвигающим некую стену между собой и собеседником. Остроумным, элегантным, эффектным. Очень глубоким, но никого не пускающим в эти глубины. Они только иногда виднелись в его глазах, вдруг становившихся серьезными, пытливыми, пристально куда-то вглядывавшимися. Порой довольно жестким, трудным в общении. Бескомпромиссным. Беспощадно правдивым, без тени ретуши. Невероятно эрудированным, осведомленным во всех областях человеческой жизни. Очень интересным собеседником.
И вдруг – иногда – он становился мягким, ласковым, почти нежным. Так было, когда мы уезжали. Лена – в четыре утра, а я – в семь. Он поднялся (как признался сам, неожиданно для себя), чтобы проводить ее, тепло попрощался, выехал в предрассветном сумраке на балкон, чтобы помахать рукой, даже приподнялся в коляске (что уже было физически трудно для него), улыбался, долго смотрел вслед ушедшему такси.