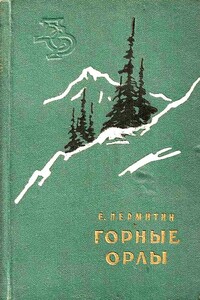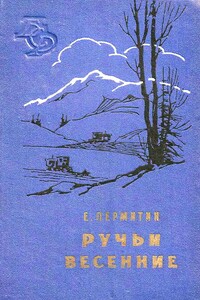Страсть | страница 89
Но вот поднялся и он и благодушно заговорил:
— За такую ночь убитой, нахолодавшей дрофе никакой дневной жар не страшен, только призакрой от солнца, и все равно что на леднике — антик-маре с гвоздикой!..
Митяйка рысью примчал к долгуше и, насыпав в торбы овса, подвесил их лошадям.
— Жуйте на доброе здоровье, ребятушки! Теперь все от вас зависит: сколь полопаете — столько и потопаете… — И он любовно похлопал Барабана и Костю по тугим их бокам.
От лошадей Митяйка было метнулся к нашим постелям, но я отстранил его, свернул и, тщательно уложив одежду на линейку, прочно, как это было сделано вчера стариком Корзининым, увязал ее веревкой. Только патронташи, ружья да два бинокля оставил сверху. Вблизи костра, на отаве, валялась брошенная вчера бригадиром убитая Митяйкой выпь, невольно остановившая мое внимание. Я много раз поднимал на охотах выпей, всегда державшихся в страшных крепях, сотни раз слышал их протодьяконски-октавистое буханье весною, так гармонически дополнявшее разноголосые ликующие весенние концерты птиц в утренние и вечерние зори. И вот теперь — растрепанная, с окровавленными и намокшими от инея редкими, встопорщенными перьями, тонкая, словно вытянутая в длину — «косая сажень мяса», как удачно назвал ее Митяйка, показалась мне такой безобразной и в то же время так ненужно загубленной, что я не утерпел и с горечью сказал:
— Зачем ты убил ее, Митя? В природе так все целесообразно, так гармонично, а ты без нужды осиротил Джакижан…
Я чувствовал, что порчу и себе, и Митяйке, и всем моим товарищам настроение в это необычайное, какое-то звонкое знобкое утро перед такой охотой, и все же не мог сдержаться: бездумная мальчишеская жестокость у хорошего по сути парня, выбившего всех без остатка белых куропаток на Красноярских просянищах, лишившего чудесные места их веселых утренних разговоров, перекликов… И вот теперь снова эта выпь, с ее потаенной жизнью и могучим бычиным голосом, взвинтили меня.
— Скажи, зачем? — повторил я.
— Не ходи босиком — не подвертывайся под горячую руку!.. — попробовал было отшутиться Митяйка. Но никто на его шутку не отозвался.
Мы молча сели к котлу. Иван взял прожаренного до подрумянки чирка, с большим аппетитом съел его и только тогда нарушил молчание:
— С Митькой, Николаич, разговаривать все равно что бритву языком лизать… — Иван сердито отодвинул свою чашку.
— Еще вчера я хотел как следует отходить его этой выпью, да пожалел, а теперь фактично сознаю — напрасно пожалел. Кто же, как не наш брат охотник, должен не допущать подобное зловредство.