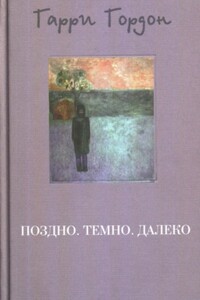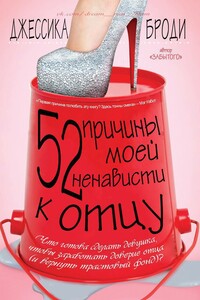Пастух своих коров | страница 59
— Ладно, как раз про город несколько стихотворений и осталось.
— Вот и хорошо. Я только доберусь до стула, с вашего позволения.
Вернулся Серафим Серафимович недовольный:
— Зачем же вы фонарь включили? Как раз над головой. Получается какой-то театр современной пьесы. Не исключаю, что батрачка смотрит в подзорную трубу.
— Делать ей больше нечего.
— Ну, читайте.
— Жителей земли, — проворчал Серафим Серафимович. — Экзюпери начитались? Сплошное шестидесятничество: белые медведи трутся о земную ось. Вертится земля, тра-ля-ля-ля… Да вы не виноваты — время было такое. Оттепель заканчивалась, холодное месиво под ногами. Интеллигенция строила прекраснодушную мину. Все благополучно в мире… А через два года — пражская весна.
— Беда с этими диссидентами, — обиделся Петр Борисович. — С чего у вас начинается летоисчисление? С распятия Пастернака? Или с процесса над Бродским? А я ведь только хотел обратить ваше внимание на то, что «Серая собака, в снег упершись худыми кулаками…»
— Нет, почему же. Я обратил. Хороший образ, только слишком знакомый. Это уже было.
— Ну да, сегодня на рассвете.
— Не важно. Вот у вас в живописи есть термин — литературщина. Что не есть хорошо. А как назвать картинки в стихах? Живописьщина? Савве, к примеру, на вашего Брейгеля, мягко говоря…
— Савве и на стихи, мягко говоря… Только я не для Савки все это писал. И не для вас.
— Интересно, интересно. Для кого же?
— Не знаю. Есть у поэта некий конфидент, идеальный ночной собеседник, на него не похожий, но дружественный… Вроде Песика.
— У Песика есть дела поважнее, — вздохнул Серафим Серафимович, — интересно, съел ли он макароны? Ну а пока он не готов, пользуйтесь.
— Сейчас, — Петр Борисович пробежал глазами следующее стихотворение.