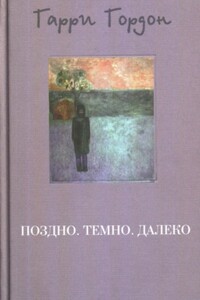Пастух своих коров | страница 39
— Нет уж! — испугался Петр Борисович.
— Ну, тогда имажинист. Что это за склеротические деревья такие? И потом — очень чувствуется склонность автора к живописи. Муравей — коричневый. От боли, кажется? Красиво, хоть и сомнительно.
— А мне сомнительны комплименты поэту за живописность, или, тем более, музыкальность. Поэзия, по определению, как вы выражаетесь, поглощает в себе и одно, и другое, и третье. И четвертое. И в помощи других органов — слуха ли, зрения, не нуждается.
— Может быть, если поэт профессионал, — холодно ответил Серафим Серафимович. — Но если вы рифмуете «запах — лапу», или как там: «деревьев — кремни», — тогда извините… И вообще, уж больно странный мир вырисовывается: зверюшки, насекомые, рыбки, птички. Похоже, вы были добрым человеком, Петр Борисович.
— Я больше не буду. Вообще-то, зверюшки здесь не причем. Надо помнить, что это очень ранние стихи. Я еще не отъехал от своей стихии — моря и степи настолько, чтобы они сфокусировались в образ, и не доехал еще до леса и речки, загадочных и волнующих, и оказался таким образом в некоем межприродье, в природе лабораторной или кабинетной. Вы это лучше меня знаете.
— Причем тут я?
— Ну, да. А что касается рифмы, я так и не стал рифмовать лучше. И сейчас не стал бы.
— Воля ваша. А что скажет Савва?
— Пойду я, — очнулся Савка. — Ночь на дворе. Совсем охренели.
Петр Борисович проснулся среди ночи, сел на кровати и закурил. На душе было неясно, как с похмелья, но похмелья не было, а было подобие оскомины, будто душа окислилась от долгого пребывания на свежем воздухе.
Серафим Серафимович спал неслышно. Да жив ли он, надо проверить, хотя — от этого не умирают.
Спина остывала, как печка. Петр Борисович закутался в одеяло. От пола отделились пузырьки воздуха — они слабо светились, не размывая кромешную темноту, света их хватало только на себя. На уровне глаз пузырьки заметно увеличивались, и оказывались ангелами с плотно прижатыми крыльями, с вытянутыми шеями. Они замирали на одном уровне, образуя подвесное небо, легко переворачивались вокруг себя, как готовые пельмени. Иногда вырисовывалась темная, ажурная, наподобие водоросли, лапка — и тут же убиралась под мучнистую мантию. Петр Борисович улыбнулся и, закутанный, повалился на подушку.
Среди дня на лед вышел Савка с острой, как стамеска, пешней.
— Репейник твой — говно, — заявил он, — давай я тебе ручейника наловлю.
Он повел Петра Борисовича к череде прошлогоднего тростника и вручил ему пешню.