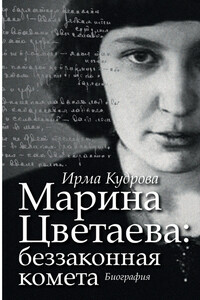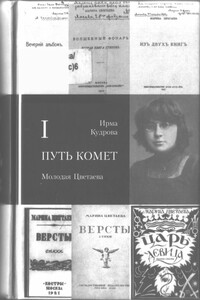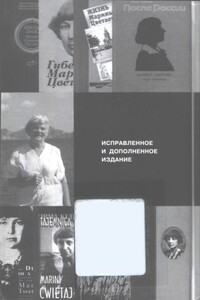Гибель Марины Цветаевой | страница 19
Именно ту, что здесь, в Болшеве, Марина Ивановна осознает, наконец, с кем связал себя ее муж.
Во Франции это называлось «Союз возвращения на родину». И еще: «советское полпредство». А после 1936 года — «Испания».
Помощь Испании была запрещена французским правительством. И в доме Цветаевой и Эфрона на эти темы — советское полпредство и Испания — всегда был наброшен некий флер секретности. Но у Марины Ивановны и не было никакого желания вдаваться в подробности.
Фанатическая преданность мужа «интересам отечества», вызывала ее недовольство и беспокойство. Она считала — и писала об этом своей чешской приятельнице Анне Тесковой, — что фанатизм и гуманизм существуют на разных полюсах, их никому не удается совместить. Супруги спорили — и оставались каждый при своем. И со временем Цветаева отступилась. Ибо в фундаменте их брака изначально лежал постулат терпимости к пути, избираемому другим.
Влияние отца на детей — вот что больше другого беспокоило Цветаеву. Ей страстно хотелось уберечь сына и дочь от этой заразы — флюидов фанатизма.
Но после внезапного бегства Сергея Яковлевича из Франции у нее уже не оставалось возможности сохранять независимую позицию. Муж фактически сдал ее на руки своим «покровителям» (хозяевам!). Отныне только через них она могла поддерживать связь с Сергеем Яковлевичем: посылать ему и получать от него письма. Те же люди, скорее всего, продиктовали ей переезд из Ванва — сначала в одну маленькую гостиничку в Исси-ле-Мулино, потом в отель «Иннова» на бульваре Пастер в Париже.
Прошение, которого в течение семи лет не мог добиться от жены Эфрон, — о возвращении в Россию, — она подала сразу после отъезда мужа. Для всего этого ей не понадобилось даже посещать особняк на улице Гренель: все делалось через доверенных лиц. Одним из них оказался человек, которого она давно знала как знакомого мужа, — то был Владимир Покровский. Похоже, что в «полпредстве» он пользовался доверием: именно через него Марина Ивановна получала все важные распоряжения, и он же передавал ей деньги — зарплату мужа.
И она брала, конечно.
А на что им с сыном было теперь жить? На заработок от публикаций или выступлений на литературных вечерах она уже не могла рассчитывать.
Если она и не знала раньше, то перед возвращением в СССР ей должны были разъяснить те же люди из «полпредства», что ее муж — советский разведчик. Я делаю это допущение по аналогии: Ариадна Эфрон в письме, посланном из Туруханска на имя министра внутренних дел Крутлова (от 22 сентября 1954 года) рассказала о том, что в Париже, в советском полпредстве, перед самым ее возвращением на родину, с ней провели беседу. Цель беседы была инструктивная (и, по-видимому, запугивающая): «Поскольку Ваш отец — советский разведчик…» Ничего конкретного в случае с Цветаевой неизвестно, но легко домыслить, что тогда же могло быть сказано — как о непременном условии — о невыезде ее из Болшева в течение какого-то времени, об ограничении внешних контактов…