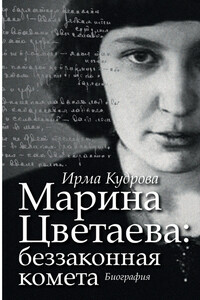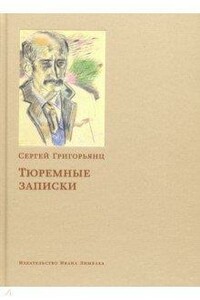Гибель Марины Цветаевой | страница 18
К общему столу она выходила из своей комнаты отстранение вежливая, с потухшим взглядом. Казалось, ей нужно было усилие, чтобы включиться в общую беседу или ответить на вопрос, к ней обращенный.
«Женщиной с неоттаявшим сердцем» называла Цветаеву Ирина Горошевская, юная жена Алексея Сеземана.
С. Н. Клепинина-Львова отмечает другую подробность, которой с трудом веришь, настолько она расходится с тем, что мы знаем о Марине Ивановне по другим свидетельствам.
Цветаева, настаивает Клепинина, была крайне неласкова и даже сурова, жестока с сыном! Воспитанная строгой, но неизменно выдержанной матерью, двенадцатилетняя Софа буквально остолбенела, оказавшись однажды свидетельницей пощечины, доставшейся Муру от Марины Ивановны. И повод-то к тому был, как ей помнится, пустячный.
Мур плакал тогда, спрятавшись ото всех, а однажды — так вспоминает Софья Николаевна, — «чуть было не убежал под электричку»…
Внешне холодная, глубоко ушедшая в себя Цветаева иногда взрывалась. Доставалось обычно тому же сыну. Но Горошевская запомнила и другой случай. Когда с безумным криком Марина Ивановна выбежала из своей комнаты, услышав, как Ирина выронила из рук кастрюльку с детской кашей у самой двери Эфронов.
Эта глухая замкнутость, эта явная перемена в отношении к сыну и болезненная резкость реакций дают основания предположить, что в Болшеве, едва вернувшись на родину, Цветаева переживает какое-то сильнейшее потрясение, к которому она оказалась абсолютно не готова.
Нечто, от чего она не может прийти в себя.
Естественно в таком состоянии жаждать уединения. Но в болшевском доме она не может остаться наедине с собой. Каждый ее шаг — на глазах других. И это усугубляет внутреннее напряжение. Мешают все, мешает даже собственный обожаемый сын, временами невыносимо упрямый и капризный. На нем, как на совсем своем (в этом случае всегда хуже срабатывают тормоза), Марина Ивановна срывается особенно часто.
Но в чем же дело, что означает это напряжение? Ведь даже спустя полгода, в Голицыне, в писательском доме, ее видели уже иной. Гораздо более спокойной и контактной. Там, за общим табльдотом, она временами даже блистала, — так что все вокруг затихали, прислушиваясь к ее рассказам о Чехии и о Франции или к рассуждениям на литературные темы…
Что потрясло ее в Болшеве, вскоре (или даже сразу) по приезде? Может быть, тут и гадать нечего: достаточно ареста любимой сестры. И ареста Миши Фельдштейна, которого она знала со времен давнего счастливого Коктебеля. И ареста Святополка-Мирского, дружба с которым родилась уже во Франции. И ареста Мандельштама… Все это люди, чьи судьбы были тесно переплетены с ее собственной судьбой. Так. И все-таки… Нельзя ли предположить и еще одну причину?