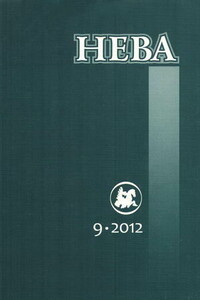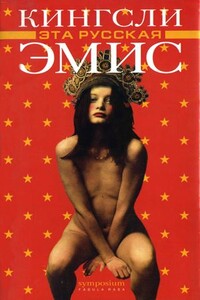Русскоговорящий | страница 36
Что только не представлялось Мите в его попытках оживить дедовское прошлое. Если бы…
Но Иван Андреич рассказывал мало и редко. Рассказы свои складывал из слов скудных, сдержанных. Ни клокочущих, ни сюсюкающих слов не знал. Старинные казачьи словечки торчали из вычурных, не по-русски скроенных фраз. С языком вообще получалось довольно путано. Настоящая казачья речь (Митя судил по «Тихому Дону») была давно им забыта, грузинского языка батоно Иван не выучил, но над кацапским выговором, уловленным где-нибудь в кино, до сих пор потешался. Сам он говорил на языке собственного изобретения — чтобы подходил и для дома, и для работы, где был он единственным русским.
О войне — хотя бы изредка. О том же, что было до неё — совсем трудно, почти ничего. Каждый раз как сквозь стену… сквозь трухлявый, но так и не рассыпавшийся страх. Он чего-то боялся. Наверное, в разное время разного. Может быть, когда-то, в самом начале, боялся лагерей: один из всей семьи избежал этого, не спохватятся ли? Но лагерные времена прошли, а страх — нет. Наверное, это было другое. Наверное, лежали не проходящей тяжестью на сердце так никогда и не оплаканные, неведомо где и когда вырытые, бурьяном заросшие и стёртые временем, — канувшие в безвестность родительские могилы.
Может быть — до самого конца — саднила печать сиротства? Должно быть, жизнь в Тбилиси начиналась для него с тоскливых воспоминаний, с гипнотического стрёкота кузнечиков одинокими вечерами. (Так значит, это оттуда — отказ вспоминать?)
Митя представлял себе юного Ваню, четырнадцатилетнего ученика киномеханика, похожим на себя: с веснушками, с непослушными вихрами. Всего лишь четырнадцать, и никого рядом. А новый мир как впервые увиденное море — чудесно шумел, блистал, томил бескрайностью. От резных ставен и гусиного гомона во дворе — на многоэтажные улицы с трезвонящей конкой, с громкоголосыми разносчиками воды в широченных штанах-шальварах. Маленький смуглый армянин, его мастер, на спор с завязанными глазами чинил кинопроекторы. «Учись, учись, Вано-джан, рукам наука нужна, иначе для чего они? Только почесаться». Вано учился, жадно вникал, как в светящемся нутре аппаратов оживает кино.
…Решившись говорить о довоенном, дед глядел растерянно, как заблудившийся ребёнок. Пытался скрыть эту растерянность, хмуря густые брови и морща лоб, но получалось ещё жальче.
— Шубники мы были. Шубы шили. Со всей округи к нам ехали. Любые делали, главное — из медведя. Хор-рошие были, — и поднимал, растопырив сухие пальцы, ладонь. Будто расправлял на весу одну из шуб, до сих пор помнил добротную густоту медвежьего меха.