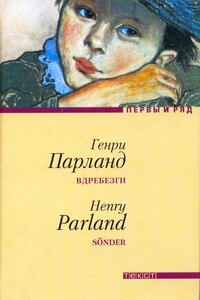Русскоговорящий | страница 16
Из общего рёва и грохота вывернул и попёр прямиком на них, коптя выхлопами по-над высокой зеленью, танк. Успели рухнуть тут же все, в двух шагах от обочины. Танк на самом повороте вдруг взял поперёк, въехал в кукурузу и встал.
Люк с лёгким скрипом открылся, из него вылез по грудь, спиной к притаившейся у земли пятёрке, чистенький немецкий танкист. Дотянулся до початка, сорвал, не спеша очистил, бросая вниз листья и летучие волоски-рыльца, и принялся смачно грызть. Коротко стриженый затылок его блестел, пальцы свободной руки выстукивали по броне башни мелодию.
Иван Андреич заметил в самый последний момент, но успел — схватил, вытащил из упрямых, опасно скользящих по спусковому крючку пальцев политрука револьвер. Хотя, сказать по правде — заметил ли? Ведь политрук лежал позади него, и видеть, как он целится в немца, Иван Андреич не мог. Но что-то развернуло его, что-то бросило назад.
Фриц беззаботно дожевал молочный початок, отшвырнул огрызок и, весело хлопнув ладонью по башне, нырнул в люк. Танк отрыгнул густой чёрный выхлоп и, тяжело лязгнув треками, ринулся дальше по дороге.
Только тогда Иван Андреич слез с обмякшего политрука, разжал ему рот. Молодой старлей рыдал, уткнувшись в сломанные стебли, бил кулаком у себя над головой и повторял, захлёбываясь: «Гад, гад».
Смерть ухмыльнулась и отошла. Остались жить все — четверо русских военных, одна медсестра да немецкий танковый офицер, с удовольствием сжевавший молодой кукурузный початок посреди своего блицкрига.
Кукурузная легенда пересказывалась, пожалуй, чаще других, и в конце концов настолько ожила, что когда однажды, классе в шестом, Митя откусил от молодого сырого початка, горло будто обожгло — выплюнул молочную мякоть как отраву.
Пластилин цвета хаки
Во рту мёртвый вкус казённой еды, тощие казённые матрасы рассыпаны по пустой казарме. Танкистов с кроватями, тумбочками и табуретами куда-то переселили, освободив место прикомандированной пехоте. Кроме них пятерых в прошитом осенним солнцем помещении лишь любопытные, взволнованные непривычной обстановкой мыши. Выскакивают, шуршат, попискивают под досками пола.
Возле двери на сквознячке выстроились начищенные сапоги, на сапогах сохнут портянки. Им выдали по банке перловки и приказали ждать. Лапин совершенно оцепенел от усталости. Свою банку он так и не открыл — сидит, зажав её в руке. Иногда его жалко, но это нельзя — жалость строго запрещена. Земляной уныло ковыряет в перловке сложенной лодочкой крышкой. Бойченко крутит большой палец на правой ноге, проверяет мозоль. Всех тянет вниз, вниз — растечься, течь и течь по матрасу, пока не выльешься весь до капли.