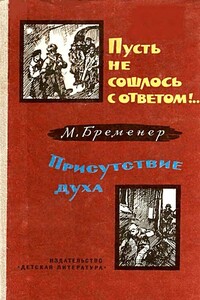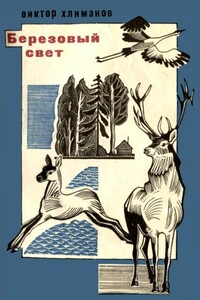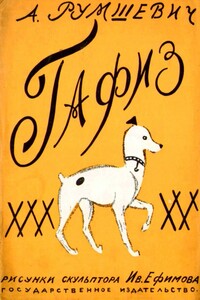Присутствие духа | страница 55
— Да мы вроде сказали… Еще там велосипеды тоже приказано сдать, так у нас ведь их нету. Да. И… это конечно уж: Коммунистическая партия запрещается.
— Да ну? — воскликнул Бабинец и вдруг расхохотался. Смех его был неожидан, как крик во сне, пугающий и внезапностью, и на миг «не своим», незнакомым голосом спящего, — Значит, приемники да велосипеды — реквизировать, а Коммунистическую партию — запретить?! — Он продолжал хохотать, мотая головой и багровея от смеха, точно от натужного кашля. — Как ты сказала, Прасковья, «конечно уж»? Я ж тебе обещал: не соскучимся! — повернулся он к Воле. — И вот!..
Екатерина Матвеевна сдержанно спросила:
— Микола Львович, разве в том, что вы услышали, есть что-нибудь неожиданное?
Бабинец энергично кивнул.
— К нам пришли фашисты, фашистское войско, — ответил он. — Ясно, что им коммунисты поперек горла. Им всегда коммунисты были поперек горла — что ж тут неожиданного, правда? А приказ их все-таки глупый, дурацкий! Потому что в приказе должно быть то, что можно выполнить. Если они напишут: пойманных, обнаруженных коммунистов — расстреливать, то это подло, но это можно выполнить. И они обнаружат многих коммунистов, — продолжал Микола Львович тише, — и загубят их. Это у них получится… А запретить Коммунистическую партию нельзя! Она ж все равно будет!! — выкрикнул он так, будто это была последняя фраза в речи, будто он, как двадцать четыре года назад, бросал слова в толпу на площади.
Прасковья Фоминична в один миг очутилась у окна и разом плотно затворила его. Маша, в продолжении всего разговора спавшая на кровати Екатерины Матвеевны, открыла глаза.
И наступила тишина, в которой Бабинцу вспомнилось, что когда-то он недолгое время считался хорошим оратором. Он говорил коротко, а народу как раз надоели тогда длинные речи — был уже не февраль семнадцатого, дело близилось к осени.
….Он просто говорил — не кричал, не жестикулировал, и только последнюю фразу товарищи научили его выкрикивать: чтобы собравшиеся видели, что он кончил. Этот нехитрый ораторский прием — единственный, которым он владел, — вошел у него потом в привычку.
— Трудно будет прожить! — прервала молчание тетя Паша. Может быть, думала она перед этим о фашистских приказах, а может быть, ее напугал странный смех Миколы Львовича, его непонятная вспышка, которая не ему одному, а им всем дорого, наверно, могла бы стоить, если б он был услышан на улице. — Трудно будет прожить, — повторила тетя Паша и сощурилась, с натугой смекая, как бы проявить все-таки…