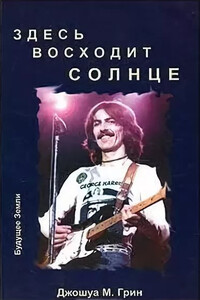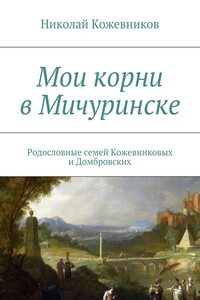Журналистика и разведка | страница 5
Отец, скромный советский служащий, тоже ждал со дня на день ареста. Под кроватью хранился мешок с теплыми вещами и сухарями — на случай, если ночью раздастся стук в дверь и суровый голос потребует: «Откройте дверь, НКВД!» Слава богу, отцу повезло. Германия угрожала вторжением в Чехословакию, и его вместе с тысячами других призвали в Красную Армию. Но эхо борьбы против «врагов народа» продолжало звучать в нашей коммуналке. Однажды в два часа ночи в квартире раздался выстрел. Через несколько минут в коридоре послышался топот сапог. Какие-то люди в форме НКВД быстро загнали обратно выбежавших из комнат жильцов и приказали не выходить. Утром мы узнали: покончил с собой из табельного оружия сосед Мишагин, работавший следователем в казанском НКВД. Что заставило его застрелиться? Угроза ареста или больная совесть участника репрессий? Много лет спустя его жена рассказала, что он, возвращаясь с работы, долго не мог заснуть, пил горстями снотворное, а уснув, нередко будил ее криком. Он ничем не делился с ней, если речь заходила о службе, запрещал задавать какие бы то ни было вопросы. Но и без этого было ясно: на работе его окружают кошмары. Когда-то спокойный, уравновешенный человек на глазах превращался в неврастеника, с которым становилось все труднее жить. 1937-й год, как гигантский дракон, поглотил свою новую жертву.
Видимо, наш сосед ушел из жизни не только потому, что на работе ему приходилось участвовать в допросах «с пристрастием». Он видел, как НКВД бросает в тюрьмы сотни безвинных людей, а ему вместе с сослуживцами поручают сочинять уголовные дела на «агентов» японской, турецкой и прочих разведок. Или на «татарских националистов», выступающих против советской власти. Закрывая всякий раз папку дела, Мишагин знал, что больше никогда не встретится в жизни с этим человеком. Не увидит его никогда и семья. Суд, вернее «тройка», выносил, как правило, расстрельный приговор. Больная совесть не выдержала. Наш сосед предпочел сам уйти из окружающего кошмара, которому не было видно конца.
Этот выстрел в себя запомнился на всю жизнь. И потом в сороковые, уже московские студенческие годы, вспоминались не раз и та бессонная ночь в нашей казанской коммунальной квартире, и «тюремная» корзинка отца под кроватью, и сломанные судьбы мужей моих теток.
К чему еще возвращается память? К судьбе друзей по двору и школе. Не у всех сложилась она удачно. Некоторые за убийства и кражи оказались в тюрьме. Это была участь многих на нашей улице Касаткина. Наши матери и отцы пропадали почти сутками на работе. Моя мама преподавала физику и математику в средней школе. Вечерами она вела драмкружок, ставила сочиненные ею пьесы. Она была, несомненно, талантлива. На ее спектакли приходили педагоги и ученики из соседних школ. Будь она в Москве, вероятно, ее способности драматурга не пропали бы даром. Но кому в Казани была нужна одаренная учительница! Правда, маму все-таки, в конце концов, представили к высшей награде — ордену Ленина. Представили не за пьесы, а за отличную успеваемость учеников. По тем временам это являлось высокой честью и редкой удачей. Мы с отцом заранее радовались, предвкушая мамину поездку в Москву, ее встречу с Калининым в Кремле и, конечно, то, как мы будем гордиться мамой, рассказывая о ней во дворе соседям и сослуживцам отца по работе. Радость оказалась напрасной. На каком-то конечном согласовании списков лиц, представленных к наградам, маму заменили на «национальный кадр». Мы же жили в Татарии, где не только местному татарскому руководству, но и тем, кто сидел в Москве, надо было демонстрировать торжество сталинской национальной политики! Неважно, что та или иная кандидатура не дотягивала до уровня многих русских учителей. Главное — она была татарка по национальности!