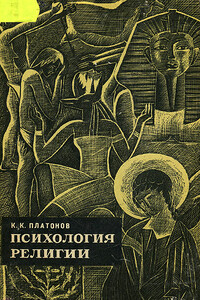Другому как понять тебя? | страница 9
Итак, несмотря на несовершенство методов установления авторства, большинство исследователей единодушны в том, что решение проблемы лежит именно на пути изучения языка и стиля произведения. Завидное согласие! И это, повторим, несмотря на целый ряд спорных и явно ошибочных атрибуций. Столь твердая позиция, очевидно, во многом способствовала созданию действительно объективных методов анализа языка произведения. В отечественном литературоведении первооткрывателем принципиально нового, объективного направления в решении вопросов спорного авторства стал замечательный русский ученый Николай Александрович Морозов (1854–1946). Человек очень непростой судьбы (в царское время — революционная борьба под знаменем народничества, заключение в Шлиссельбургскую крепость, каторга), Н. А. Морозов обладал поистине энциклопедическими знаниями. Научные интересы этого талантливого человека были чрезвычайно широки: кроме литературоведения, математика и астрономия, античная история и библейская мифология;
В статье «Лингвистические спектры», вышедшей в 1915 году, Морозов характеризует свой метод как «средство для отличения плагиата от истинных произведений того или другого известного автора». Идею метода Морозов заимствует у немецких исследователей XIX века В. Диттербергера и К. Риттера, которые изучали спорные тексты (среди них тексты, приписываемые Платону, Гёте и др.) методами статистического анализа употребительности отдельных речевых форм, слов, выражений, фразеологических оборотов и синонимов. Причем в качестве счетных единиц выбирались наиболее подвижные и легко заменяющиеся синонимами элементы языка.
В основе предложенного Н. А. Морозовым метода лежало глубокое убеждение автора в том, что языковые элементы распределяются в общей структуре текста в определенной пропорции, которая характеризует индивидуальный речевой стиль писателя. Но если немецкие исследователи использовали сравнительно редко встречающиеся в тексте лингвистические формы (предполагая, что уникальность языковых форм определяет индивидуальность стиля писателя), Морозов, наоборот, предложил «отбросив все редкие слова, ограничиться наиболее частыми и общими для всех родов литературы». За этим кажущимся незначительным различием в позициях немецких исследователей и Н. А. Морозова скрывалось принципиальное расхождение: не исключительность языкового элемента определяет стиль писателя, но своеобразие в употреблении общих языковых форм, а это может быть объективно установлено только математически. Далее Морозов обратил внимание на тот факт, что не только необходимо учитывать слова, имеющие большую частоту употребления, но и то, что группы этих слов неоднородны, т. е. они должны принадлежать различным частям речи. Особое внимание он уделял незнаменательным словам, служебным, или как назвал их автор, распорядительным частицам речи (союзы, предлоги, некоторые местоимения, наречия и пр.). Отвечая утвердительно на вопрос: нельзя ли по частоте употребления таких частиц узнавать авторов, как по чертам их портретов? — Морозов предлагает: «Для этого прежде всего надо перевести их частоты на графики, обозначая каждую распорядительную частицу на горизонтальной линии, а число ее повторений на вертикальной, и сравнить эти графики между собой у различных авторов».