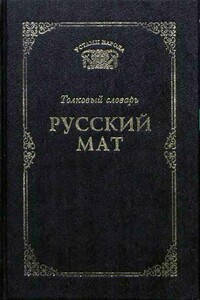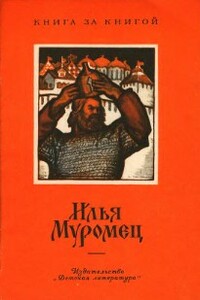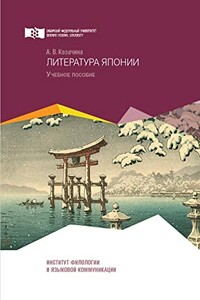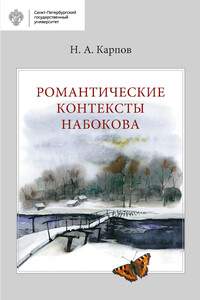Рукописный девичий рассказ | страница 26
Подавляющее большинство сюжетов с той или иной степенью точности укладываются в описанную трехчастную схему. Незначительное количество рассказов (например, «Полонез Огинского», «Рассвет», «Тюльпаны» и «Подлость») не соответствуют ей.
Поскольку абстрактный фабульный архетип девичьих рукописных рассказов может, по всей видимости, быть сведен к трехчастной формуле, все элементы которой включают в себя любовную семантику (любви посвящены и те тексты, которые не укладываются в предложенную формулу), то включение в жанровое определение девичьего рукописного рассказа определения «любовный» представляется вполне целесообразным.
Понятие «девичьего любовного рукописного рассказа» формально охватывает все зафиксированные тексты; трехчастная формула логически удерживает около 90 процентов зафиксированных (сюжетно не повторяющихся) текстов. Но, как и в любом жанре, по мнению составителя, существуют девичьи любовные рукописные рассказы par excellence, рассказы, определяющие «лицо» жанра. Как представляется, в группу таких «репрезентативных» текстов входят рассказы, включающие смерть или реальную угрозу смерти хотя бы одного из героев. Связка «любовь+смерть» охватывает порядка 60–70 процентов зафиксированных сюжетов. Наконец, семантическим ядром девичьих любовных рукописных рассказов является группа текстов, в которых не просто наличествует тема «любви и смерти», но реализуется сюжетный ход «самоубийство в ответ на смерть любимого» (он присутствует примерно в 40 процентах рассказов).
Данный сюжетный ход, вполне возможно, репрезентирует парарелигиозную семантическую компоненту девичьих рукописных любовных рассказов. Тетради с рассказами о любви, кстати говоря, оберегаются от посторонних глаз значительно более тщательно, чем обычные альбомы-песенники, не содержащие подобных рассказов (этим, вероятно, и обусловлена поздняя их фиксация исследователями современных форм культуры — через 20–30 лет после появления). Может быть, это косвенным образом связано с тем, что переписывание и чтение этих рассказов являются своеобразным исповеданием (эзотерического) культа любви, во имя которой можно (и даже должно) уйти из жизни или отрешиться от обычных земных моделей поведения (хранить верность образу погибшего любимого). Сюжетное воплощение такой поведенческой модели, как самоубийство в ответ на гибель любимого, базируется на осознанной в большей или в меньшей степени презумпции существования «иного» мира — мира, где навечно воссоединяются любящие. Эта презумпция является конституирующим признаком религиозного миросозерцания.