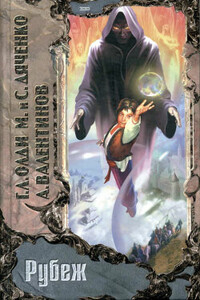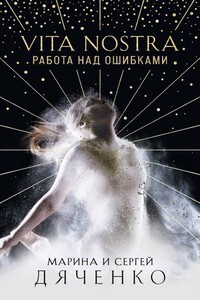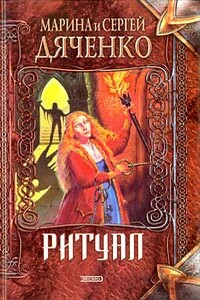«Если», 2000 № 06 | страница 55
В сюжетах, где научная подоплека скорее мешала, чем выручала, тоже не было недостатка. В 1932 г. на экраны выходит «Атлантида» Г. Пабста с Бригитте Хельм (Мария в «Метрополисе») в главной роли надменной царицы Антинеи, мумифицирующей своих любовников. Вопреки расхожей логике, местом действия этого фильма стала не океанская пучина, а заброшенный подземный город под пустыней Сахара. Ланг ставит новый фильм о докторе Мабузе («Завещание доктора Мабузе»), Ричард Освальд леденит кровь почтенной публики историей о красавице-злодейке, выросшей из магического корня мандрагоры («Альрауне» все с той же Бригитте Хельм).
На основе немецких фильмов («Тоннель», «Атлантида») снимаются их английские и французские версии. В смысле технического обеспечения съемок немцы также лидируют по многим позициям не только в Европе, но и в мире. Применение метода Шюфтана (комбинированных съемок с миниатюрными макетами), впервые использованного в «Метрополисе», позволяет экономить на строительстве дорогостоящих декораций, но если уж их строят (как, например, для «Тоннеля»), то они поражают своей достоверностью и масштабами…
Все оборвалось с приходом к власти нацистов. Немецкая кинофантастика погрузилась в летаргический сон, продолжавшийся без малого четверть века. После 1934 г. прекратилось производство новых фильмов с фантастическими сюжетами, а в 1940 г. был издан указ, запретивший прокат и старых картин, если при их съемках не присутствовал военный цензор. Из старых лент космической тематики был смонтирован неуклюжий гибрид под названием «Космический корабль-1 стартует». За все годы нацистской диктатуры единственным прибавлением в семействе фантастических фильмов стал разве что «Барон Мюнхгаузен» Йозефа фон Баки (1943) — фильм-сказка с удачными спецэффектами и откровенной милитаристской нагрузкой.
Почему Гитлер так плохо относился к фантастике? Патологическая боязнь раскрыть военные тайны, показав на экране макет ланговской ракеты, над которым действительно трудились спецы из военного ведомства Оберт и Лей, объясняет это лишь отчасти. По-видимому, свою роль сыграл синдром «отвергнутой любви» фюрера к режиссерам, прежде всего, к тому же Лангу, отказавшемуся создавать нацистскую киномифологию по примеру «Нибелунгов» и «Метрополиса». Кроме Ланга, в 30-х годах из Германии уехали Г. Пабст и Р. Сиодмак, еще раньше перебрались в Америку Э. Любич («Фауст», «Глаза мумии Ма»), К. Нойман (будущий постановщик «Ракетного корабля ХМ» и «Мухи»), К. Леммле (в 1931 он поставил в США «Франкенштейна»), оператор «Метрополиса» К. Фройнд (в 1932 — режиссер американской «Мумии»). Таким образом Германия растеряла те самые таланты и замыслы, без которых в ее кинематографе 40-х — 50-х гг. образовались пустые страницы.