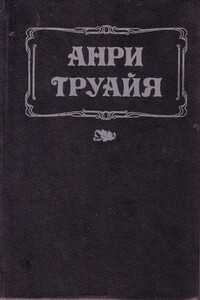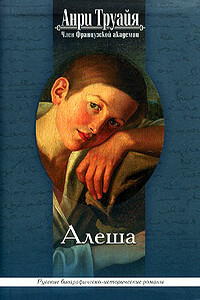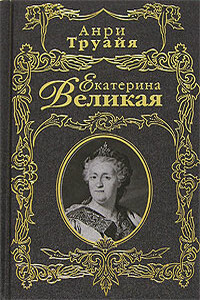Петр Чайковский и Надежда фон Мекк | страница 16
Читая об этом физическом и духовном отвращении к существу, которому вздумалось из чистого тщеславия забрать себе великого человека, Надежда фон Мекк упивается отмщением. Самозванка, думает она, обличена и почти свергнута. Чего она так боялась, появления в жизни Чайковского «настоящей женщины» и растворения его гения в новом для него счастье семейной жизни, все это в конце концов оказалось не более чем ночным кошмаром. Она-то боялась, что окажется без места в игре в стулья, а вот, однако же, это той, другой, некуда пристроить свой прелестный зад. Надежда почти хохотала. Но как Чайковский перенесет шок этого неизбежного разочарования! Читая следующие строки, Надежда начинает проникаться страхом перед глубиной описываемого им горя. «Моя жена передо мной ничем не виновата: она не напрашивалась на брачные узы. Следовательно, дать ей почувствовать, что я не люблю ее, что смотрю на нее как на несносную помеху, было бы жестоко и низко. Остается притворяться. Но притворяться целую жизнь – величайшая из мук. Уж где тут думать о работе. Я впал в глубокое отчаяние, тем более ужасное, что никого не было, кто мог бы поддержать и обнадежить меня. Стал страстно, жадно желать смерти. Но я имею слабость (если это можно назвать слабостью) любить жизнь, любить свое дело, любить свои будущие успехи. Наконец, я еще не сказал всего того, что могу и хочу сказать, прежде чем наступит пора переселиться в вечность».
Надежда переводит дыхание – самое страшное позади. Остается лишь кухня разбитой семейной пары, которая пытается соблюсти приличия. После кратковременного путешествия в Санкт-Петербург Антонина вздумала отправиться со своим мужем к матери. «Не знаю, как я с ума не сошел. Мать и весь entourage[5] семьи, куда я вошел, мне антипатичен. Кругозор их узок, взгляды дики, все они друг с другом чуть не на ножах; при всем этом жена моя (может быть, и несправедливо) с каждым часом делалась мне ненавистнее. Мне трудно выразить Вам, Надежда Филаретовна, до какой ужасной степени доходили мои нравственные терзания».
Далее он признается, что ему пришлось искать забытья в возлияниях, но не чрезмерных, что переносить экстравагантный характер супруги ему помогает беззаветная преданность Котека, что он еще не оправился: «Не знаю, что будет дальше, но теперь я чувствую себя как бы опомнившимся от ужасного, мучительного сна, или, лучше, от ужасной, долгой болезни. Как человек, выздоравливающий после горячки, я еще очень слаб, мне трудно связывать мысли».