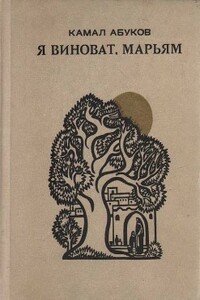Ленинградские тетради Алексея Дубравина | страница 70
— Ну, прощай. Ухожу в газету. На счастье, подвернулось вакантное место.
Его сообщение меня ошеломило.
— Что же, не хочешь поздравить? — обиделся он.
Поздравить я не догадался, думал в тот час о другом.
— Слушай, а как же со школой?
— Я газетчик, понимаешь? Лихой прирожденный газетчик. Большего желать не собираюсь.
На следующий день он ушел и в школу уже не заглядывал.
Но можно ли было представить себе школу без Юрия или, вернее, Юрия без школы?
Вместе с Андреем Платоновичем, классным руководителем, мы пошли в редакцию. Юрка, заметив нас еще на улице, мгновенно куда-то провалился; редактор в тот день был в колхозах.
В райкоме комсомола нас встретил секретарь.
— Как? И вы не пытались его удержать? Исправим, немедленно исправим ошибку.
В этот раз водворение Юрия происходило иначе. Пришли секретарь райкома, редактор газеты, тихо посидели в кабинете директора, тихо ушли. Назавтра, смущенный и пристыженный, возвратился Юрий. Сел на прежнее место у заднего окна и ни с кем не разговаривал. Нос его теперь не поднимался, напротив, несколько дней тяготел все книзу.
И все-таки — счастливец этот Юрка. Сколько же он прозвищ нахватал в Сосновке! Кюхля… Романтик… Поэт… Дон-Диего… — всего не перечислишь.
Не-Добролюбов
Третьего участника нашего квартета характеризовать довольно трудно: похоже, он неисчерпаем. Кажется, нет такого слова — понятия в русском языке — среди слов, обозначающих свойства натуры, — каковое не имело бы к нему непосредственного отношения, так или иначе не касалось бы его сущности.
Во-первых, Пашка Трофимов — неуклюжий увалень, сама воплощенная флегма, неторопливое степенство. Вместе с тем, в парадоксальном его характере таилось и что-то от холерика. Тогда он возбуждался, стремительно загорался и шел напролом к поставленной цели. Моментами был и совсем бесшабашным. Но это случалось однако же редко.
Во-вторых, это — сущий ребенок, робкий, застенчивый, тихий и послушный. Но мудр был, сатана, не по возрасту, умел математически точно разбираться во всем, в чем мы, его товарищи, обычно пасовали. И тут начиналась вторая метаморфоза Пашки: разобравшись в чем-нибудь сложном, он тут же по горячке стряхивал с себя покладистого парня и превращался в его противоположность — в холодного сухого эгоиста. Мы не мирились с этим, бесцеремонно его одергивали — и Пашка безропотно возвращался на прежние позиции.
В-третьих, Павел был рассудительным философом, живой энциклопедией всевозможных сведений и неудержимым спорщиком на всех комсомольских диспутах. Спорить он любил, спорил с азартом по любому поводу. И не было в этих утомительных словопрениях равного Пашке оппонента.