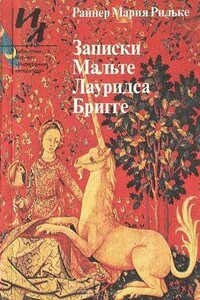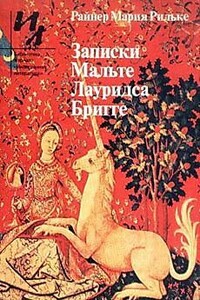Новые стихотворения | страница 99
ПРИЛОЖЕНИЯ
Г. И. Ратгауз
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ
(Жизнь и поэзия)
Стефан Цвейг, хорошо знавший Рильке, оставил в своей книге воспоминаний «Вчерашний мир» (1941), завершенной им незадолго до смерти, замечательный портрет поэта. С благодарностью вспоминая почтивших его своей дружбой «мастеров златокованного слова», Цвейг отмечает: «Никто из них (поэтов начала века. — Г. Р.), пожалуй, не жил тише, таинственнее, неприметнее, чем Рильке. Но это не было преднамеренное, натужное… одиночество, вроде того, какое воспевал в Германии Стефан Георге; тишина словно бы сама ширилась вокруг него… он чуждался даже своей славы… Его голубые глаза, которые, когда он на кого-нибудь глядел, освещали изнутри его лицо, в общем-то неприметное. Самое таинственное в нем была именно эта неприметность. Должно быть, тысячи людей прошли мимо этого молодого человека с немного… славянским, без единой резкой черты лицом, прошли, не подозревая, что это поэт, и притом один из величайших в нашем столетии…»[3]. Рильке, пишет Цвейг, принадлежал к особому племени поэтов. Это были «поэты, не требовавшие… ни признания толпы, ни почестей, ни титулов, ни выгод и жаждавшие только одного: кропотливо и страстно нанизывать строфу к строфе, чтобы каждая строчка дышала музыкой, сверкала красками, пылала образами»[4].
Действительно, как у многих великих поэтов, жизнь Рильке была органически связана с его поэзией; и в его скромности и бескорыстии была скрыта неколебимая принципиальность и особый социальный смысл. В мире, где успех определялся чисто внешними критериями, Рильке не хотел и не мог стремиться к успеху. В мире банков и бирж, в мире наживы и прозы, в эпоху жесточайших классовых антагонизмов и мировых войн возникает тихая и глубоко человечная поэзия Рильке, которая временами представляется на этом фоне почти непостижимым явлением. Откуда Рильке черпал силы, чтобы противостоять всем воздействиям буржуазной действительности? Ответ один: в своем творчестве. «Gesang ist Dasein» (песня есть существование)читаем мы в «Сонетах к Орфею». Именно по этому закону жил и творил Рильке. Его бескорыстное служение поэзии было проникнуто духом высокого гуманизма. Одним фактом своего бытия оно наглядно доказывало, что есть особые ценности, которые невозможно измерить прагматическим мерилом.