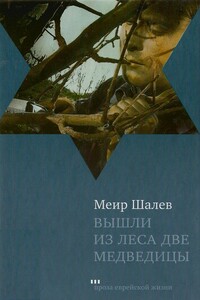Дело было так | страница 44
Потом мы проходили лагерь Шнеллера[40] и продолжали спускаться по улице Царей Израиля, главной улице Геулы. То тут, то там навстречу нам попадались торопившиеся на утреннюю молитву верующие, но ни единой машины не было вокруг, даже издали не видно.
Много позже, уже в молодости, лет в двадцать, мне довелось однажды испытать странное и приятное переживание, связанное с теми ночными походами: в течение трех недель кряду, почти каждую ночь, мне снилось, что я спускаюсь по тому же участку улицы, от лагеря Шнеллера и до площади Шабат, но один, без мамы. Я иду, то и дело ударяя ногой по асфальту, и от этого подпрыгиваю, взмываю в воздух и долго лечу в медленном высоком прыжке, шириной в сто пятьдесят, а то и двести метров, и на самой его вершине пролетаю над всеми домами улицы, мягко приземляюсь, и снова ударяю ногой, и снова взлетаю. Полеты во сне — дело нередкое, но почему я летал именно там и почему так много раз подряд? Не знаю. После двадцати или около ночей эти полеты во сне перестали меня навещать, и я еще долго жалел об этом.
Но тогда, в тот первый раз, мы с мамой шли по земле, никуда не взлетая, пока не вышли на площадь Шабат, где повернули налево, а потом опять налево, к молокозаводу. Наш молочный «танкер», неизреченное имя[41] которого — «Нагалаль» — было нарисовано вызывающе ярко-желтыми буквами на зеленых дверцах, уже стоял там во дворе, толстый шланг высасывал из него последние литры, и Мотька Хабинский громко приветствовал маму: «Шалом, Батинька!» — как называли ее все в мошаве.
Мотька был человек сердечный и шумный, на гладкой коже его рук и ног не было ни единого волоса, а большое лицо излучало радость и доброту. Он кричал так, как обычно кричат водители тяжелых грузовых машин («ведь нужно было перекричать шум мотора», — объяснил он мне много лет спустя, уже под старость, когда я пришел к нему с вопросами), и выглядел так, как и должен был выглядеть водитель еврейского молоковоза из Изреельской долины: большой сильный детина в синей рабочей рубахе, в коротких рабочих штанах, тоже синих и широких, и в «библейских сандалях», как называли эти открытые туфли знатоки иврита, вроде моих родителей.