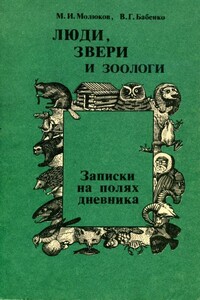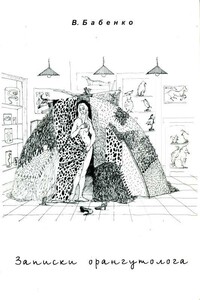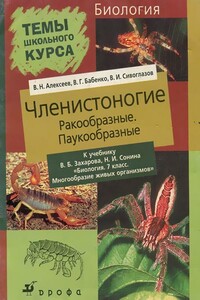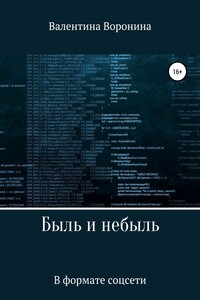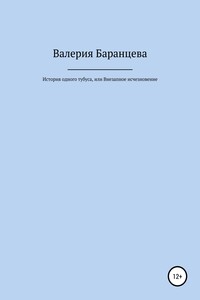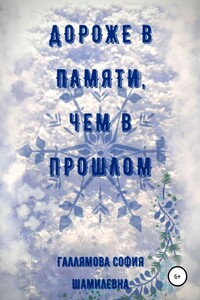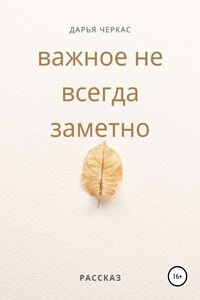Барский театр | страница 33
Сергей добрался до лога, поросшего густым заповедным разнотравьем. Зоолог пробродил там несколько часов. Он нашел старые следы медведицы с медвежатами. Звери, выкапывая корневища раковой шейки и объедая листья скерды, истоптали весь лог. Но все следы были старые. Сергей прошел еще немного, распугивая взлетающих из травы бабочек-мнемозин и наконец понял, почему мать увела свое потомство из этого сытного места: на логу совсем недавно поселился огромный самец. И медведица, опасаясь за жизнь детенышей, решила уйти.
Сергей спугнул тетерку с выводком, в котором было только два уже крупных птенца (он еще удивился, что их было так мало), и наконец обнаружил то, что хотел найти — лёжку нового владельца кормной долины. Она располагалась под огромным валуном. Примятая трава и земля под ней были теплыми — медведь услышал Сергея и бесшумно скрылся. И еще зоолог понял, почему в выводке тетерки было всего два птенца, — остатки еще трех он нашел рядом.
Сергей, рассматривая следы этого зверя, вспомнил, с какой завистью читал иностранные публикации, в которых зарубежные специалисты описывали, как они усыпляют медведей пулями-шприцами, начиненными снотворным, берут со спящего зверя всевозможные промеры (даже зубов!), умудряются в полевых условиях взвесить обездвиженное животное и, наконец, самое главное — надевают на него, как на тетерева, ошейник с радиопередатчиком, при помощи которого следят за всеми его перемещениями.
О такой технике Сергей мог только мечтать. Два года назад Сергею, наконец, повезло — на него «вышли» норвежские специалисты. Они разработали простой способ определять зверей в природе — по уникальному, единственному для каждого животного генетическому коду. Для этого нужна была самая малость, — добыть от каждого медведя всего несколько клеток с ядрами, там, где и хранилась требуемая дезоксирибонуклеиновая кислота.
Сначала норвежцы искали участки, где медведь метил территорию, — драл кору на деревьях, надкусывал и заламывал небольшие елки. Там косолапый обычно терся о стволы, оставляя на них шерсть. А в ней сохранялись волосяные луковицы, с которых и имелась так нужная для науки ДНК.
Но этот метод был не очень удобен — ведь мест, где медведь оставляет свою шерсть, в лесу не так уж много.
К счастью, оказалось, что клетки, содержащие в себе ценную информацию, находятся также и в желудочно-кишечном тракте, откуда они периодически выводятся наружу естественным путем.
Поэтому норвежцы быстро переключились на сбор медвежьего дерьма и достигли в этом значительных успехов. Его искать было гораздо проще, чем медвежью шерсть, и оно поставлялось зверем в гораздо большем количестве («до ведра», как писал в дневнике один лесник заповедника).