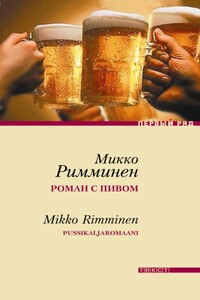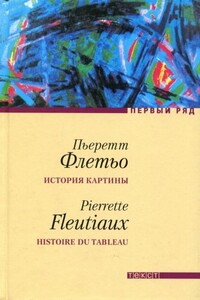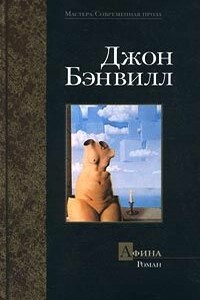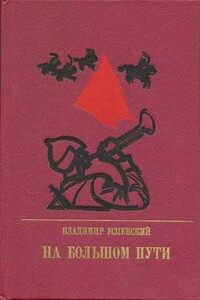Кеплер | страница 63
Кеплер вспомнил отца. Было бы что вспоминать: заскорузлая ладонь, отвешивающая пощечину, обрывок пьяной песни, сломанный меч, проржавевший якобы от крови турка. Его-то что вело, какие невозможные стремленья бились, толкались у него в нутре? И мог ли он — любить? И что? Топот ног на марше, медный запах страха в рассветном бранном поле, грубое тепло и бред заезжего двора? Что? Можно ли — любить сплошное действие, дрожь бесконечного движенья? Окно расправилось под его грустным взглядом. Вот — мир, и сад, и дети, его дети. Я мал, и узок мой горизонт. Потом, как холодной водой окатило: смерть — с обломком ржавого меча в руке.
— …так мы и будем?
Он вскочил:
— Что?
— Ах, да ты не слушаешь. — Младенец у ней на руках тихонько, на всякий случай, хныкнул. — Мы что? Останемся в этом… этом доме? Да где ж тут для нас место?
— Целая семья, поколения, жили здесь когда-то…
Она на него смотрела. Поспала немного, сидя у стола, глаза опухли, и багровела полоса на подбородке.
— Да ты хоть думаешь когда-нибудь…
— Да.
— …о таких вещах, хоть когда-нибудь ты о таком заботишься?
— Да. Разве я денно и нощно не тревожусь, не бьюсь… я… я?.. — От жалости к себе комок встал в горле. — Чего же тебе еще надо?
Из глаз у ней брызнули слезы, младенец, как по сигналу, разрыдался.
Дети пришли из сада, почуяли недоброе, застыли на пороге. Зашелся младенец, Барбара его трясла, укачивала — механическое подобие нежности. Кеплер отвернулся от нее и напутал детей своей улыбкой.
— Ну что, Сюзан, Фридрих? Нравится вам у бабушки?
— Там крыса дохлая в саду, — хмыкнула Сузанна, и Барбара всхлипнула, и он подумал, что все это когда-то, где-то уже было.
Да, все это, все это уже было. И почему при каждом возвращении домой он надеялся все найти преображенным? Не настолько же о себе возомнил, чтоб думать, будто перипетии нынешней его судьбы волшебным образом изменят жизнь прежнюю, давным-давно оставленную в Вайле? Хорош. Разрядился в пух и прах, да и ворвался в свое прошлое, преспокойно рассчитывая, что самого успеха его достанет, чтоб куча навозная вдруг розами зацвела. И ведь он уже в дверях почуял — фокус не удастся, стоять ему, потеть, роняя из-под звездчатого плаща бумажные цветы и кроликов перед осоловелыми глазами публики, до того озадаченной, что и не в силах над ним смеяться.
Однако Генрих был под впечатлением, и, если ему верить, мать тоже. «Только про тебя и говорит. Ну да! И все дивится, отчего же я-то не такой. Я! Ну, я ей говорю, мамаша, говорю, Иоганн — он и есть Иоганн!» Огрев брата по плечу, сопя, со слезой — будто отпустил ловкую, редкостную шутку. Кеплер улыбнулся грустно и понял наконец, что же его так жгло: для них его успех был чем-то, что попросту с ним стряслось, выпало ему, великая, чуть смехотворная удача свалилась с неба на их Иоганнеса.