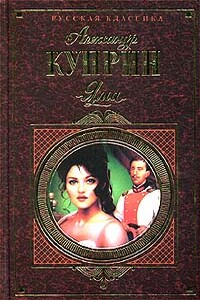История женитьбы Ивана Петровича | страница 29
Они вышли в этот малиновый цвет и увидели в центре поляны шалаш. Составленный из разных повянувших веток, шалаш стоял прочно на теле земли. Он был брошен людьми, в нем давно никто не жил, но внутри сохранилась подстилка из трав. Две плетневые стены подпирали друг друга, не давая упасть шалашу под себя.
«Как же образуется шалаш? — пронеслось у Ивана Петровича. — Берут две стены и насильственно каждую нагибают к противной. Стены падают, но наткнувшись одна на другую, уперевшись друг в друга, они удерживаются на месте и дальше больше не упадут никогда, продолжая косо стоять опершись. И в этом шатком объеме вполне можно жить, даже и очень великому человеку, — как то и было однажды в недавнее время.»
Ему захотелось забраться в шалаш; он вспомнил одно из главных впечатлений от детства, одну из немногих поездок в деревню. Он сидел на сеновале один, и шел дождь, он накрылся желтым бабушкиным полушубком и смотрел в небольшое окошко на дождь. Сеновал протекал, через щель в потолке по одной то и дело стекали крупные капли. Капли стукали гулко в дубленую кожу и прибавляли Ивану Петровичу — а тогда просто Ване — чувства удовольствия от крепкой защиты.
«Дождь идет, но не может ничего со мной сделать!» — думал он непрерывно одну только мысль.
Пришла соседская девочка Таня, как ее все называли — Танюша, такого же возраста, что и он, лет тринадцати, а может быть, несколько больше. Танюша забрала у него четверть шубы, укрыла себя по плечам и затылку и тоже стала смотреть за окно. Сеновал был общий на целый их дом, в котором у бабушки было пол дома; на другой половине жил Танин отец.
Ване нравилась она, как впрочем нравились многие, с кем он учился и вырос. Но уезжая в город, он только ее вспоминал по-особому и чёрт знает что себе с ней представлял.
Он представлял, что, конечно, будет лето и не в городе, они с Танюшей разденутся где-нибудь в комнате, разденутся не так, как на пляже, а со значением, и останутся голые. Снаружи обязательно хлынет нестрашный им дождь, будет громко колотить по чему только можно. Он тронет ее неодетый тонкий бок, а она дотронется ему до плеча, потом до ребер. Так легко они будут касаться друг друга и вздрагивать кожей от холодного пальца. Это было все, что он тогда представлял, но уже тогда ему казалось самым главным, тем, что и решит, что он будет чувствовать при этом — как они придут к такому смелому решенью, какие скажут слова перед тем, которые могут их заставить устыдиться — не друг друга, а себя, внутри, за неловкость и поспешное стремление скорее, словно к делу; которые могут их сделать врагами и уже через вражду добиваться того, что рисовалось обоим; которые могут, наконец, оставить им для пущей их радости небольшое смущение, а вместе со смущением позволят им так много доверять друг другу, так преодолеть недоверие и страх перед реакцией другого, что интересность иного человека, понимаемая через открывшиеся очертания и нежность тела, касание холодных пальцев, вздрагивание, через замедленное течение суток, устроила бы им такой счастливый день, которого еще не достигали никакие люди.