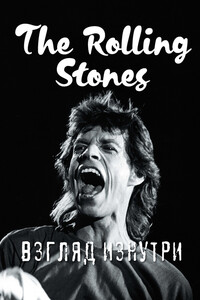Рублев | страница 91
Андрея и Даниила это наверняка смущало. Но, сыновья своего времени, оба, видимо, решили просто: не в том дело, что вообще невозможно воплотить в образах бесплотное, а в том, что «господь не сподобил их» этому.
Однако беспокойство и неудовлетворенность покинуть художников не могли.
Их должно было тревожить то простое и очевидное соображение, что восторг праведников и жен несоизмерим с предстающими им в действительности картинами.
Значит, полного удовлетворения роспись собора ни Андрею, ни Даниилу не принесла.
Возможно, они даже переписывали иные фрески. А время не ждало. Лето промчалось как один день. Близились холода. Надо было завершать труд. И однажды мастера спустились с лесов в последний раз. Измученные. С покрасневшими от напряжения белками усталых глаз. Болезненно щурящиеся от яркого света. В заляпанных красками рясах. По привычке ступающие и по земле, как по шатким доскам…
Роспись и огромный иконостас были закончены. Беспокойство в душу заронено, потребность думать и творить возбуждена вновь.
Может быть, в тот день, когда освобожденный от лесов храм открылся опешившим владимирцам, простодушный поп Патрикей, растерянно поискав глазами искаженные лица грешников и не найдя их, не узрев ни жутких чертей, ни карающего господа, ни гневных апостолов, в первую минуту онемел, не сразу сообразил, Страшный суд перед ним или что еще, наяву ли видит он свой собор, или во сне.
Но все происходило наяву.
Наяву толпился растроганный причт, наяву опускались на колени прихожане, наяву слышался тихий женский плач…
И наяву какая-то властная сила распрямляла спину самого Патрикея, распирала ему грудь жалостью и радостью, звала его самого за апостолом Петром.
Поп Патрикей не мог знать, что жить ему остается всего два года.
Что всего два года спустя ворвавшиеся во Владимир татары потребуют у него, слабого и подверженного соблазнам, отдать ключи, показать, где лежит казна храма и запрятаны серебряные и золотые сосуды.
Не знал, что тогда он плюнет в бороду татарскому мурзе.
Не знал, что ему будут вбивать под ногти щепу, «жарить» его на сковороде и, привязав нагое, в ожогах, кровоточащее тело к хвосту коня, в последний раз крикнут: «Скажешь?» А он, разлепив разбитые губы, с тоской глянув на небо, снова лишь плюнет в наклонившееся над ним хищное скуластое лицо и уже не узнает собственного раздирающего крика…
Но в ту минуту перед росписями москвичей Патрикей, задыхаясь, наверное, верил: ему под силу любой крест.