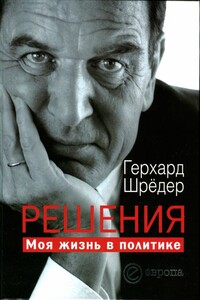Том 6. Публицистика. Воспоминания | страница 21
— Я испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость моей прежней жизни…
Какая «мерзость», какие смертные грехи числились за ним? Только те, что называются «грехами святых», всегда считавших себя самыми страшными грешниками. Но все равно: сколько лет и с какой ожесточенностью скоблил он черепицей проказу своих грехов («не было ни одного самого страшного преступления, которого бы я не совершал») и трепетал, как Иов.
— Ужасное, чего я ужасался, постигло меня; и чего я боялся, приходит ко мне.
Толстой говорил почти теми же словами:
— Я качусь, качусь под гору смерти. А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие. Я люблю мою жизнь — семью, хозяйство, искусство…
— Как мне спастись? Я чувствую, что погибаю, люблю жизнь и умираю — как мне спастись?
«И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что прятал шнурок, чтобы не повеситься, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться».
Левин тоже погибал. «Но Левин не повесился, и не застрелился, и продолжал жить». Почему продолжал? Потому, что была на то воля Хозяина, которую он, невзирая ни на что, непрестанно чувствовал в себе так же сильно, как его работник Федор. Воля (стремление) к жизни (земной, временной) — в теле. И Левин уже и тогда остро ненавидел временами тело, — и свое и чужое, — отсюда и было ему искушение повеситься или застрелиться. Но уже и тогда чувствовал он, что не будет это спасением для него. Уже и тогда слышал в себе «голос Высшего Я». Зачем надо было продолжать жить? Затем, что этот голос говорил, что нужно «спастись» при жизни. А в чем спасение? Не в убийстве тела, не в выходе из него «не готовым», а в преодолении его и в потере «всего, кроме души».
V
После его похорон Ясная Поляна быстро пустела.
В доме еще оставались некоторые родные и близкие, но и они уже разъезжались один за другим; и Софья Андреевна сказала Ксюнину про этот пустеющий дом, куда она вошла когда-то почти девочкой и где провела потом целых сорок восемь лет:
— Через три дня дом совсем мертвый будет…
Все уедут…
Тот, с кем она когда-то вошла в этот дом, был в ту пору во всем расцвете всех своих беспримерных сил и любил ее так, что говорил: «Я счастлив, как один из миллиона». Он писал тогда в своем дневнике:
— Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу: она смотрит на меня и любит… Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем; и она скажет: «Левочка!» — и остановится: — «Отчего трубы в каминах проведены прямо?» или: «Почему лошади не умирают долго?» Люблю, когда мы долго одни — и «что нам делать?» — «Соня, что нам делать?» — Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновение ока у ней мысль и слово, иногда резкое: «Оставь! скучно!» Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык; люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо…