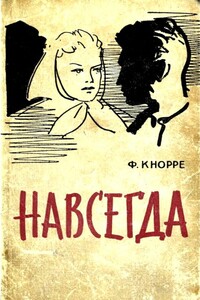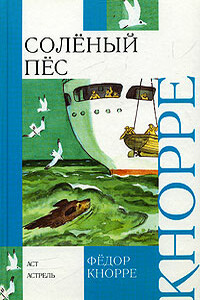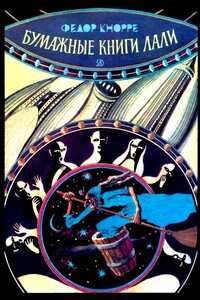Орехов | страница 67
Прежде полупустая комната была теперь загромождена мебелью. На круглом столе сидел, разбросав вокруг витые шнуры, большой шелковый абажур пыльно-апельсинового цвета, добела выгоревший с одного бока. Посреди комнаты, повернутый лицом к стене, зеркальный шкаф отражал пустой угол и часть окна. Раскидистая, в восточном узоре тахта стояла наискось, как на мебельном складе, а у нее за спиной, точно очень тощий человек, опустивший руки по швам, вытянулся узенький, высокий шкафчик между двух хлипких столиков с гнутыми ножками. Все это и еще всякое другое не стояло по местам, а теснилось как попало, точно только что ворвавшееся войско победителей.
От всего прежнего виднелись только стертые пятна от ножек матраса Валиной постели на крашеном полу, и от марлевого полога, под которым лежала когда-то девочка, остались следы кнопок на стене с лохмотками обрывков марлевых ниток. Две кнопки остались на своем месте, - видно, полог срывали кое-как, второпях.
И тут он вспомнил, что даже не знает имени девочки, что сидит в совершенно чужой комнате, где он никому решительно не нужен, где быть ему вовсе не полагается.
Он поскорей потушил свет, запер дверь на оба оборота и, уходя по улице, обернулся на фонарь, подумав, что видит его в самый последний раз. Валя уехала. Или не уехала, но для него все равно что уехала.
Свою жизнь он видел теперь не так, как говорится - в новом свете. Нет, не в новом, а просто в свете, а не в потемках. Он постарался вспомнить Анисимова, но вспоминался тот с трудом. Лучше он не сделался, как был подлец, так и остался, только усох и отодвинулся куда-то в дальний пыльный, темный угол с того важного почетного места, куда он сам, дурак этакий, усадил его в своем воображении.
Далеко ли он сам ушел-то от этого Анисимова? Сам с собой наедине разве он не усадил одного Анисимова на скамью подсудимых, а сам не устроился где-то в свидетелях, чуть не в пострадавших?
С удивительно беспощадной ясностью виделось ему теперь все прошлое, все там видно до мельчайшего пятнышка, и травинки, и букашки на кончике травинки! Так понятно: несчастье в его жизни произошло вовсе не на заседании комиссии, а куда раньше. Крушение его жизни и неясное, но томительное, неотступное сознание этого крушения пришло к нему гораздо раньше заседания. Комиссия только сделала свое дело: написала на бумаге то, что его совесть знала, что он давно в себе носил, как смертельную болезнь.
И до чего же ему хотелось при его вине, чтоб все кругом были виноватыми, чтоб все было пускай бы как можно хуже, пускай бы и Валя оказалась жадной мещанкой из газетного фельетона, вымогательницей, тогда ему стало бы уже так легко, что и раздумывать больше было нечего. А получилось, что он наткнулся на девочку и вот уцепился за нее, как хватаешься за слабенький кустишко, сорвавшись под откос с крутизны обрыва, не находя под ногами опоры, держишься, висишь минуту, другую, ноги шарят в пустоте, судорожно ищут опору, а ее и нет, только пустота под тобой, голова кружится, если глянуть, и уже подаются с хрустом слабенькие корешки, и вот-вот полетишь... И вот теперь все, хрустнул последний кустик, вырван с корнем, и он летит в пустоте.