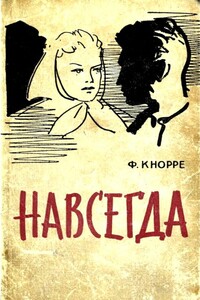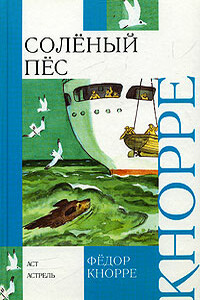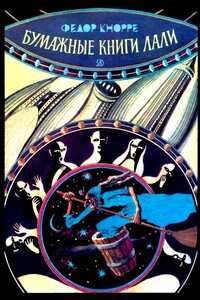Одна жизнь | страница 82
- Ну, усмиряют, мать их, поняли?
- Кого усмиряют-то?
- Кого-кого! Наших. Ну, коммунаров!
- А усмиряет кто?
- Ну, ихняя белая гвардия, собаки, кто ж еще!
Минуту стоит тишина, и вдруг, уже без понуканий, чей-то голос тревожно и горестно восклицает:
- Ей-богу, возьмут баррикаду!
Его сурово одергивают:
- Брось паниковать! Бой! Чего ты под руку гавкаешь!
Слышно безнадежное кряхтенье:
- Нет, все!.. Всех перебили, гады. Один пацанчик в живых! Во! Поперли всей оравой, обрадовались! Хорошо им, сволочам, с маленьким воевать!
Тяжелое дыхание навалившихся друг на друга в тесноте людей. Упавшим голосом кто-то хрипло бормочет:
- Знамя срубили. Все. И глядеть-то неохота.
Со сцены понесся рокот барабана. Его слышно было даже на крыше.
- Это знаете кто? Тот пацанчик в барабаны ударил. Не сдается, дьяволенок, значит... А может, это он на выручку зовет?.. Да кому тут выручать? Ага! Вот слыхали? Это он-таки из пушки напоследок дернул, белогвардейцев навалил кучу!.. А сам теперь тоже упал. Мертвый. Конечно, где ж одному-то?
В это время на сцене Леля медленно приподнялась на локте, встала на одно колено. Кровавое пятно алело у нее на виске. Она осторожно приподняла голову убитого отца и прикрыла ему лицо изорванным красным знаменем. Она никогда в жизни не переживала ничего подобного. В зале стояла живая, чуткая, беззвучная, пульсирующая тишина. Она чувствовала, что ей не нужно сейчас торопиться. Это было похоже на счастье, такое сильное, что выдержать его долго она сама бы не могла. Она помедлила секунду, две, три, пять, точно искушая судьбу, желая почувствовать границу власти над людьми.
Спектакль кончился, все это понимали и не ждали больше ничего.
И вдруг - теперь уже совсем не Леля - мальчик у изорванного знамени над телом убитого отца, на мертвой баррикаде, выпрямился и закинул голову. Тугой и сильный звук, как будто рванули громадную струну, взлетел над залом. Голос торжествующе и страстно-торопливо запел слова: "Клянусь быть честным, доблестным и ярым, всю жизнь к насильникам питать вражду!.."
Это было так неожиданно, даже странно, точно было уже вне спектакля. Зал беззвучно колыхнулся от удивления и замер. Голос летел и нетерпеливо рвался, выливаясь ликующим звоном металла: "Отец мой был солдатом-коммунаром в великом девятнадцатом году!.."
Испуганными глазами не отрываясь от Лели, Семечкин с ожесточением рвал мехи баяна, и со второго такта к нему неожиданно присоединилась скрипка, выпевая бессмертную мелодию "Марсельезы".