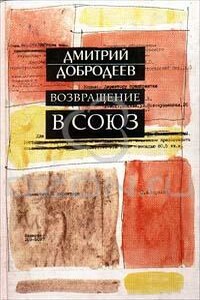Каирский синдром | страница 101
Я прилетел из Праги на его похороны. С Сашей прощались в Бутовском крематории на окраине Москвы: он лежал в гробу как живой, с детской улыбкой на лице. Тут же стояли немногочисленные родственники, переминались подогнанные на автобусе сослуживцы. В самом конце аллеи, за крематорием, припарковались скромные «Жигули», рядом с ними курили четыре человека, среди них молодая женщина. Лишь потом до меня дошло, что это были его верные друзья по Зазеркалью — интернет-форуму, в котором он буквально дневал и ночевал в последние годы, отказавшись от неприятных обязательств по миру реальному. Несколько лет спустя после Сашиной смерти, собирая материал по нашей командировке в Египет, я набрел в Интернете на записи бесед, которые Саша под ником ЗаМ вел с ночными друзьями. Мне показалось, они открывают другую, мне ранее не известную сторону его души. Я привожу отрывки из этих чатов, которых, как я понял, уже нет в Интернете. Пусть сбудется твоя мечта о Зазеркалье, мой старый друг!
Дмитрий Добродеев
О СЕБЕ
Я родился 20 марта 1950 г. в Батуми, но уже с трех месяцев и всю остальную жизнь с перерывами — вплоть до эмиграции — жил в столице.
Читать я начал рано, года в четыре, и главными увлечениями в детстве были русские народные сказки и былины, а также легенды и мифы древней Греции. Советская детская литература практически обошла меня стороной. Библия в СССР была запрещена, а когда я открыл ее в 1973 году, было уже поздно. Поэтому в моих текстах изначально нет влияния Библии и советской литературы. Но есть влияние экзистенциалистов, которых я открыл, учась во французской спецшколе, в середине 60-х годов. А также русского дворового языка.
До 23 лет я не хотел становиться писателем. Жизнь казалась мне более интересной в действии и географическом разнообразии, поэтому я и поступил на арабское отделение Института восточных языков при МГУ. В начале 70-х я провел как переводчик незабываемый год в Египте, который произвел переворот в моем сознании. Солнце, свобода и масса интересных книг — я отразил это время в своем романе «Каирский синдром».
Однако в 73-м году жизнь обернулась ко мне своей теневой стороной. На меня поступил донос в КГБ, я стал невыездным, и меня направили работать в военную контору МО СССР, где, вместе с разжалованными офицерами, я должен был переводить техническую литературу на арабский язык.
От отчаяния и духовной деградации в этой безнадежной брежневской Москве меня спасла литература. Я понял, что только слово и поиск самого себя способны дать направление в жизни. У меня был хороший друг, Володя Малявин, сейчас известный российский синолог и профессор Тамканского университета на Тайване. Он тогда только что вернулся из Сингапура, где много общался с французскими левыми. В его квартирке в Шелапутинском переулке я участвовал в беседах и брал книги из его уникальной библиотеки: Ницше, Арто, Эзру Паунда, Г. Миллера. Володя часто цитировал своих французских леваков: «Главное — троица Селин — Батай — Жене». И, действительно, Л-Ф. Селин, которого я прочел тогда в оригинале, перевернул мое сознание. Я не очень любил поэзию вообще и русскую в частности, но меня потрясли стихотворения Гельдерлина, «Песни Мальдорора» Лотреамона и поэмы в прозе Рембо. Последнюю точку в моем литературном самообразовании поставили рассказы Борхеса, после которого, как мне показалось, начался процесс деградации в западной литературе.