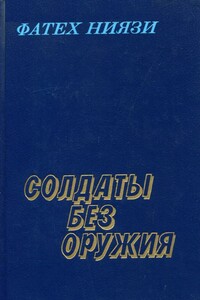Рапорт из Штутгофа | страница 79
Несмотря на свой маленький рост, он обладал невероятной физической силой. Однако силой своей он пользовался не па работе, а лишь в те минуты, когда играл, дрался или проказничал, потешая нас своей детской непосредственностью.
Божко родился в Харькове. Что случилось с его отцом — если только у него был отец, — я не знаю. У него на глазах нацисты изнасиловали и убили его мать, а его самого погнали на принудительные работы в Германию. Естественно, он сбежал от своего хозяина, но его поймали и в наказание отправили в Штутгоф.
В противоположность Ивану Божко ни слова не говорил по-немецки или не хотел говорить, как и многие другие русские ребята.
Иван и Божко принадлежали к числу тех детей, которых все порядочные заключённые старались спасти от физической и моральной гибели. Теперь они жили в сравнительно сносных условиях. В лагере они были уже давно и знали всех лагерных старожилов. Они научились «организовывать» вещи и никогда не упускали удобного случая «организовать» то, что плохо лежит. По молчаливой договорённости между старшим капо и капо отделений ребята у нас никогда не работали, а лишь делали уборку да следили за тем, чтобы вдруг не нагрянули представители вермахта или Рамзес. Поэтому они не были привязаны к одному какому-нибудь отделению. Мы с ними только болтали о всякой всячине, и у них всегда была полная свобода передвижения.
В оружейной команде, вероятно, не было ни одного заключённого, который не подбрасывал бы им время от времени немного еды. С тех пор как датчане стали регулярно получать посылки от Красного Креста, ребятам немало перепадало и от нас.
Все любили и Ивана, и Божко, и ещё одного парня — Михаила, потому что они постоянно что-то придумывали, и их проделки хоть как-то скрашивали наше безрадостное, рабское существование. Ибо, несмотря на все ужасы, которые они видели и пережили, они всё ещё оставались детьми и их детские души не были испорчены.
В один из первых дней моей работы в мастерских Божко подошёл к моему рабочему столу и в течение двадцати минут рассказывал мне по-русски о том, как он однажды смотрел со своей матерью цирковое представление. Впрочем, смотрел — не то слово: он жил этим представлением. И хотя из его повествования мне удавалось разобрать лишь одно слово из десяти, я понимал абсолютно всё. Его губы, мимика, жесты, глаза, какой-то внутренний свет, то и дело озарявший его весёлое некрасивое лицо, — всё это говорило мне яснее всяких слов о том, что он увидел на цирковой арене. И под конец мне уже казалось, что я тоже видел это представление с начала и до конца.