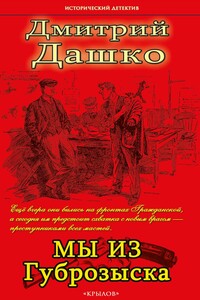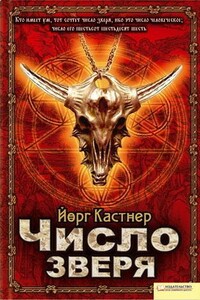Смертельная лазурь | страница 40
К счастью, изувеченное тело Осселя догадались отвязать и увезти — столб одиноким напоминанием торчал над деревянным помостом. Тело скорее всего увезли на другой берег реки Ай, в Волевейк, туда, где трупы казненных привязывали уже к другим столбам для всеобщего устрашения. Там они и стояли, поедаемые червями. Неизвестно отчего я почувствовал облегчение, но ненадолго — домой я направился в премерзком настроении, радоваться было явно нечему.
И тут внимание мое привлекли многочисленные лавчонки, выстроившиеся на Дамраке[2]. Вот уже шестой день я пребывал не у дел, и пустой карман становился не столь уж отдаленной перспективой. Необходимо было что-то предпринять. Поэтому я направился к лавке Эммануэля Охтервельта, согласившегося принять мои картины на комиссию. С той поры как я справлялся у торговца об их судьбе, успело миновать две недели. Тогда ему не удалось продать ни одной, но, может быть, сейчас…
Подвальчики Дамрака, где расположились харчевни, питейные заведения и лавки, невзирая на зверскую арендную плату, были местом, недурно посещаемым, следовательно, дела Охтервельта шли вполне сносно, коль он до сих пор пребывал здесь. Когда я передавал ему картины, перед моим мысленным взором уже громоздились кучи сверкающих золотых дукатов и талеров, я даже позволил себе помечтать о том, что вскоре распрощаюсь с этой каталажкой и заживу художником на вольных хлебах. Однако судьбе угодно было распорядиться по-своему.
Антиквариат Охтервельта, где продавались картины и книги, располагался между пивной и магазинчиком, торговавшим восточными вазами, коврами и экзотической одеждой. Я уже собрался подняться по ступенькам, как дверь лавки отворилась и передо мной показалась Йола, шестнадцатилетняя дочь Охтервельта. Узнав меня, девушка наградила меня улыбкой и осведомилась, как мои дела.
Не успел я ответить, как из глубины лавки донесся голос ее отца:
— А как могут быть дела у Корнелиса Зюйтхофа, доченька? Премерзко, как мне думается, ибо только вчера того, кто принадлежал к числу его закадычных друзей, прикончили при всем честном народе на площади у ратуши. Так ведь?
— О, простите, я этого не знала, — пробормотала явно смущенная Йола, потупив взор и невольно продемонстрировав во всем великолепии свои пушистые темные локоны. — Вы уж простите меня, господин Зюйтхоф!
Взяв Йолу за подбородок, я посмотрел ей в лицо.
— Вам не за что извиняться, Йола. Откуда вам знать об этом?
Сгорбившись, из лавки выбрался на свет дня ее отец.