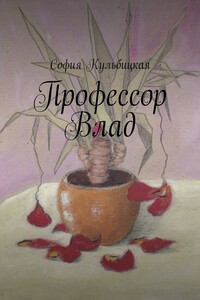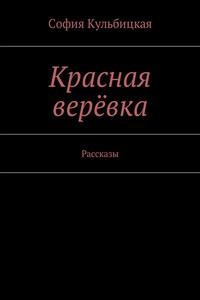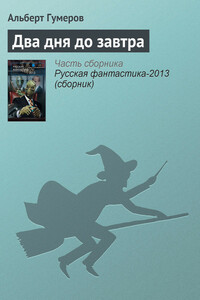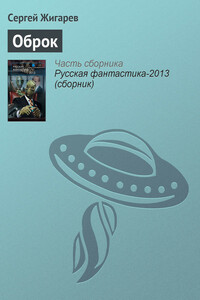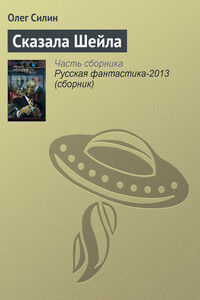Каникулы совести | страница 103
Ещё час-полтора, пока мы на пару с неуёмным Кострецким навёрстывали скомканную прогулку (он потащил меня собирать янтарь, чьи симпатично необработанные кусочки в изобилии содержала в себе песчаная почва сосновой рощицы), я усердно пытался выкинуть из головы ненужные мысли. Но не мог, и на душе у меня становилось всё сквернее и сквернее. Как он смеет, этот властительный старикашка? Кто он, собственно, такой? Что хорошего сделал? Чем заслужил? Почему он — а не я? Здоровье? Молодость? Власть? Ничего из этого он не заработал сам. Пользуется плодами чужих усилий. Моих… и Кострецкого. Уж лучше бы Игорь… (я чувствовал почему-то, что ревновать к министру безопасности мне и в голову бы не пришло).
Кажется, тот в конце концов почувствовал неладное — ибо поспешил свернуть экскурсию: проводил меня до лужайки, которую я сам с непривычки нипочём бы не нашёл, пересыпал груду моих трофеев в свои широченные карманы — и, пообещав нанизать мне на память разопупенный браслет, отпустил меня восвояси «до полдника».
И лишь когда я, наконец, остался один и зашагал вдоль стройного ряда туй по мощёной розовым кирпичом дорожке к своему домику — наваждение отпустило меня, и я в кои-то веки вздохнул свободно.
Но тут же… другая печаль. Не знаю, как и в какой момент это началось, острый приступ ясновидения, что ли, но я уже не видел в Куте Лизу, мою горемычную вторую жену, но саму Россию в женском обличье, отданную на утеху странноватому существу по имени Альбертик. Плюс Игорь Кострецкий в роли сутенёра. Но, по большому счёту, виноват был не он. И даже не Гнездозор, который, сообственно, вообще был ни в чём ни сном, ни духом. Нет. Предъявлять стоило только мне. Я один нёс полную ответственность за всё.
Это я — и никто другой — был причиной дьявольского обмана. Это мне предстояло все оставшиеся годы, а, может, и месяцы, каяться перед Кутей, отдавшей себя по неведению. Перед Кострецким, которого я невольно ввёл в соблазн — и тем самым (в нашем возрасте уже не боятся пафоса) погубил его душу. Да что там — перед миллионами погибших россиян, чьи тела, словно некие розы без аромата, устилали собой широкий путь Альберта к власти. Но всё-таки я очень несознательный гражданин. Аполитичный и почти не способный к абстрактному мышлению. Мне было не так жаль страну в целом (ну, Кострецкий особь-статья!), но эту беленькую девочку, так похожую на мою жену, что вполне могла бы быть нашей с Лизой внучкой…
Может быть, ещё и потому, что за время прогулки она, голубушка, успела порассказать мне кое-что о себе. Сиротка-«отказница», лет до четырнадцати росла в крепкой рабочей общине с целой кучей «братьев» и «сестёр» — у приёмных родителей, людей простых и по-своему добрых, но не очень далёких, малообразованных, ортодоксально-религиозных — и, в общем, так и не сумевших стать ей родными. Потом — обшарпанная вонючая общага в подмосковном модельном училище — тоже не очень-то гостеприимная среда. Словом, до восемнадцати лет Клавдии Кретовой были неведомы такие прелести жизни, как поддержка близких, домашнее тепло, семейный уют. До тех пор, пока однажды в её сумочке не завибрировал внезапно проснувшийся звукофон — и обаятельный, знакомый всей России голос с лёгкой гнусавинкой не предложил «встретиться и поговорить на приятную тему», — почти та же схема, что и у меня. И точно так же, как я, оказавшись здесь, она почти сразу поняла — вот оно, то, что она так долго и безнадёжно искала, о чём плакала ночами, чего ей так недоставало в этой паскудной жизни.