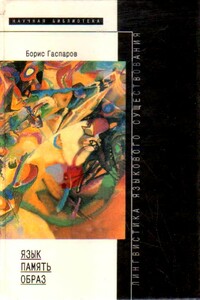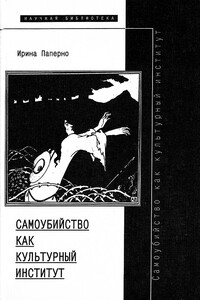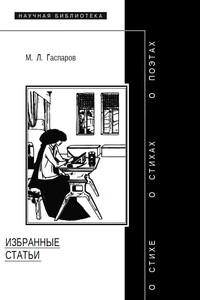Поэзия и поэтика города | страница 30
С середины XIX в. (или чуть позже) начинает спонтанно складываться традиция литературного паломничества, посвященного Мицкевичу и филоматам — притом, что примерно с середины 1860-х и до Первой мировой войны любое упоминание об университете и его питомцах на территориях, отошедших к России, было запрещено. Красноречиво свидетельствуют об этом некоторые описания таких путешествий, например в записках профессора Краковского Ягеллонского университета Станислава Тарновского (подробнее о нем см. ниже) о посещении в 1878 году Виленского университета: именно его он называет «наиболее волнующим из виленских памятников»[103]. Университетские здания наполнены для него голосами и образами прошлого: «… здесь, в этих галереях и коридорах окликали люди друг друга незабвенными именами Зана, Чечота, Домейко, Одынца! здесь и Эйзебиуш Словацкий и доктор Бекю, и та темная школьная зала, которую вспоминает их сын и пасынок, и надо всем возвышается Мицкевич, здесь колыбель поэзии польской! нет для нее места более памятного, более святого. Сегодня и снаружи все как будто иначе. А вот другой внутренний двор, замкнутый с трех сторон стенами самого здания, очень хорошо украшенными двумя рядами арок, которые, может быть, помнят еще Батория… с четвертой ликом костела Св. Иоанна; выложенный большими каменными плитами, он, похоже, остался совсем таким, каким был во времена Университета. И даже люди здесь еще учатся: какая-то русская гимназия профанирует эти стены и залы. Войти или не войти? Войти и не найти ничего, ни одной памятки о том, что было, а только это оскорбительное настоящее, — это еще хуже, еще больнее: и тем не менее входишь куда-нибудь, в первую же залу, говоря себе, что и в ней мог на скамье быть Мицкевич, за кафедрой Лелевель или Голуховский. Если бы было где-то поблизости кладбище, на котором лежит кто-либо из них, пошел бы на кладбище; с таким же чувством печали, но и обязанности почитать входишь в эти залы, но выходишь из них скорее, чем вошел»[104]. Перед нами описание человека, оскорбленного тем, что увидел, с чем ему трудно примириться (ведь он посетил Вильно уже после второго восстания — 1863 г., жестоко подавленного властями Российской империи); Вильно, где живо помнят правление генерал-губернатора М. Н. Муравьева, прозванного «вешателем». Однако наряду с горьким чувством у Тарновского очевидно и совершенно ясное понимание Вильно как места литературного и культурного паломничества. Важно, что воспроизводится и основной литературный контекст Вильно XIX века, который уже немыслим без филоматов-филаретов, поименованных Тарновским первыми. Постепенно оформляется легенда и происходит мифологизация истории.