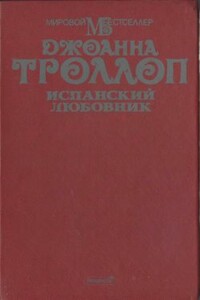Дикие ночи | страница 32
«Ты сечешь, Лидия должна была молчать, но она знала, что я пойму, и все мне рассказала… Мама вернулась домой вечером, помню, я смотрел телевизор, лежа на диване и положив голову Лидии на колени. Мама поцеловала меня и сказала: „Твой отец нашел новую работу в электронике, до января он будет на севере Франции“. Я смотрю на Лидию, улыбаюсь и говорю: „Хорошая работа? А платят сколько?“ А чуть позже, за ужином, спрашиваю: „Черт, папа все-таки мог бы остаться дома, он же знал, что я приезжаю!“»
В «Пасифико» полно народу: смех, прикосновения, признания в любви, даже траханье; говорят по-французски, по-английски, по-испански. Мы еще выпили текаты, и я спросил Сэми об отце, но он больше ничего не захотел мне рассказать, даже в какой стране Магриба родился.
Я отвез его к дому Марианны. Через несколько минут их тела будут рядом, совсем близко друг от друга, и это причиняет мне боль. А ведь все должно было бы быть очень просто: у меня есть Лора, между нами зарождается любовь.
Чтобы заглушить боль, мне нужно было окунуться в мерзость и порок, только это помогало. Под мостом Гренель есть Лебединая аллея, где черноту ночи не разгоняет ни одно светлое пятно. Под мостом колышутся человеческие тени, если, конечно, это не черные австралийские лебеди.
Бритоголовый парень в холщовых штанах и армейских ботинках прижимает меня к опоре моста и бьет коленом в пах. Когда мой партнер отклоняется в сторону, я вижу на другой стороне Дом Радио. Он плюет мне в лицо, я мочусь ему на руки, а он вытирает их об мои волосы и шею. И я забываю…
К Лоре я возвращаюсь очистившимся. Я знаю, что мог бы приобщить ее к «радостям» моих диких ночей, и это ничего бы не изменило. Грязь, плевки, моча, сперма или дерьмо отмываются водой и мылом.
Я любил чувствовать ее груди, ощущать себя внутри нее. Я редко целовал Лору, почти не разглядывал тело. Ласкать я любил Сэми, и целовать я хотел тоже его, но он, на мое несчастье, предпочитал женщин.
Я любил Сэми, любил Лору, любил порочность своих ночей. Неужели я родился с расщепленным сознанием? Или меня резали на кусочки медленно, постепенно, потому что в монолитном состоянии я становился слишком опасным, неконтролируемым?
Я трус: считаю, что прихожу к Лоре, очистившись от грязи ночной жизни, но молча и подло отравляю ее своей гнилой кровью. Я стрелял в нее вирусом и ничего не говорил. Молчание завораживало меня.
Я хотел признаться и не мог: ей только исполнилось восемнадцать, и я видел лишь ее обманутую юность и погибшую жизнь.