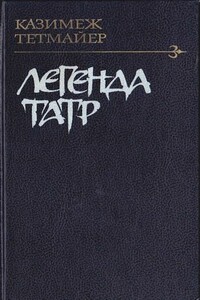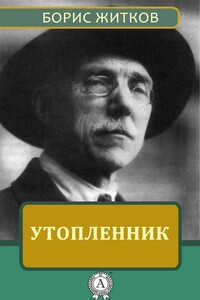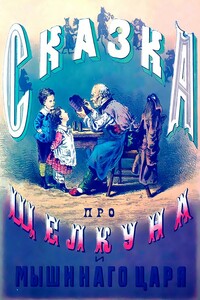Панна Мэри | страница 45
— Вот видишь, папа! У нас нет ни имени, ни мирового состояния! Что мы?!
Гнезненский погладил дочь по лицу.
— Ну, не злись, Мэри милая. Титул мы где угодно раздобудем, — во всяком случае, нас везде будут считать одними из самых богатых людей.
— Но не в Америке, например.
— И там, и там…
— Да, но ведь мы должны затмевать других, блистать. Подумай, папа, — за пределами Варшавы, за пределами Польши кто о нас знает? Разве, когда мы проезжаем через Берлин или Вену, о нас пишут в газетах? О нас упоминают, как о приезжих, на последней странице «Fremdenbllatt», наравне с какими-нибудь Куфкэ или Вульбербург. И не больше. Разве не должны писать в хронике: «В нашем городе находится проездом известный миллионер барон Рафаил Гнезненский с женой и дочерью, известной красавицей»? Разве так не хорошо?
Гнезненский слегка прищелкнул губами и едва заметно кивнул головой.
— Но для этого, папа, надо иметь не 10 или 12 миллионов рублей (ведь такие деньги найдутся у любого берлинского биржевика), а пятьдесят или сто! Ведь ты видел, папа, что делалось в Ницце вокруг Вандербильдов? А Кузнецов, который приехал на собственной яхте? Как все им интересовались! А o нас кто говорил? Говорили те, кто видел меня. Mademoiselle Gniezniensky, mademoiselle Gniezniensky, et voila tout. Это надо изменить!
— Я буду добиваться титула.
— Тогда и мне будет легче выйти замуж за аристократа.
— Ну, это легко и сегодня!
— Да, но за первого встречного я не выйду. Уж, кажется, у нас, в Польше, мне можно выбирать.
— О, сколько угодно. Как Гаммершляг говорит: nur pfeifen!
— Фи! Это грубо!
— Прости, Мэри, — но ведь это правда.
И Гнезненский с гордостью взглянул на дочь; она была удивительно изящна.
— Ну, так что же, как решил?
— Это выяснится окончательно сегодня или завтра.
— Надо, чтобы это выяснилось как можно скорее.
— Да, но и спешить — людей смешить!
— Ты прав: никогда не спешить! Это мой принцип. Осторожность прежде всего!
— Насколько я знаю Стжижецкого, он сюда больше не придет. Подождем день, другой, а потом пустим слух, что он сам захотел разрыва. Ты понимаешь, папа, и мне незачем тебе объяснять, что мне не нужно порывать самой с Стжижецким. Если бы Стжижецкий сделал какую-нибудь подлость, смошенничал или надул кого-нибудь, тогда другое дело, но что опера его провалилась — il faut être noble.
Мэри иронически улыбнулась, а Гнезненский расхохотался довольным смехом.
— Надо кое-что делать для этих людей! — сказала она, презрительно надувая губы. — Знаешь, папа, а хорошо бы было поехать в Загаевицы и там «перестрадать»… Или нет, ведь раз «страдания», то зачем порывать? В таком случае я не могу принять обратно слово, данное Стжижецкому, а должна броситься перед ним на колени и молить его остаться. «Но я любила только талант Стжижецкого, моя любовь была преклонением, результатом энтузиазма и должна была исчезнуть»… Я могу «грустить» о том, что разочаровалась, но «страдать» мне нельзя, раз причина любви исчезла, и я больше не люблю. Не правда ли, папа?