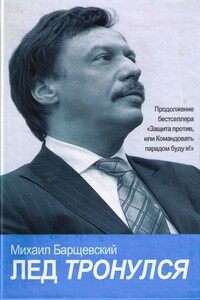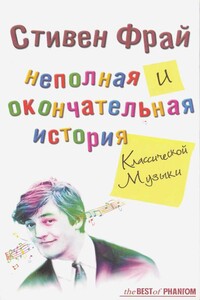Козленок за два гроша | страница 6
— Душу нельзя увидеть глазами, — говорил он. — Потому что глаз алчен и завистлив.
Лея все время ревновала его к чему-то невидимому, не доступному глазу, тонула в его молчании, как в омуте, и потом, в постели, обвивала своими тростниковыми руками его голову, забиралась на него, как на плот, и до утра, опьянев от ласки и неги, в беспамятстве плыла по простыне, как по белому, быстроходному облаку, шептала что-то стыдное, нежное и называла: «Мой камень, мой добрый камень…», а он только улыбался в темноте, и грубое его лицо озарялось улыбкой, как хлев факелом из подожженной пакли.
Он был счастлив с Леей. Недаром она родила ему столько детей, сколько Гниде и Двойре вместе. Двое умерли при родах, а погодки Эзра и Церта уцелели. Двадцать лет прожил Эфраим с Леей, за это время она даже состариться не успела. Другие женщины в местечке старели, седели, покрывались морщинами, а она, его Лея, выглядела как невеста. Эфраим берег ее от сглаза, от шныряющих по местечку странников, отпугивал их своим суровым молчанием, отгонял, как слепней, мог в случае нужды взять самого прилипчивого за шиворот и выставить прочь. Молодость Леи льстила ему, и он просил у неба только одного, чтобы Лея пережила его, чтобы не сошла до времени в могилу, как и две его другие жены — Гинде и Двойре.
Небеса, казалось, не отказали Лее в своей милости, услышали Эфраимову просьбу. Лея цвела, как яблоня, роняя на Эфраима свой цвет и орошая его своей молодостью, как весенний паводок дернину.
Может, потому, а может, по другой причине Эфраим так растерялся, когда Лея вдруг слегла. Все началось с легкого кашля, с невинной простуды (дело было под Рождество), не предвещавшей ничего дурного. Полежит денек-другой в постели, попьет липового отвара или молока с медом, попарит в корыте ноги, и кашель как рукой снимет. Но Лея кашляла пуще прежнего. Даже за околицей, у молельни, было слышно, как она надрывается, бедняга. Никакой отвар, никакое молоко — ни парное, ни кипяченое — не помогли.
Эфраим надел кожух и по льду отправился на другой берег Немана, в крохотный городок, где жил старый фельдшер по фамилии Браве, изредка лечивший и мишкинских евреев.
Эфраим отыскал его дом, объяснил Браве свою просьбу и стал ждать ответа.
Фельдшер Браве крутился возле пахучей, увешанной чистенькими тряпичными гномиками елки и, похоже, не обращал на просителя никакого внимания. Он переставлял своих гномов, поправлял на них красненькие колпачки с таким тщанием, словно от этого зависело все: и жизнь Леи, и продолжительность зимы, и благополучие его дома.