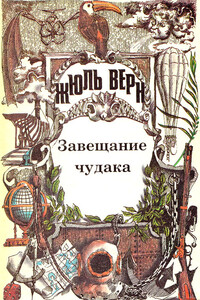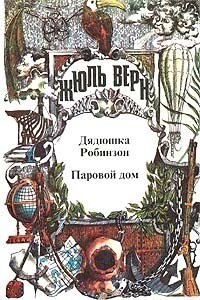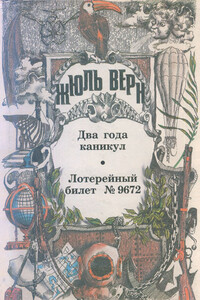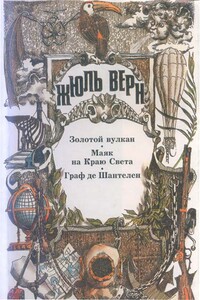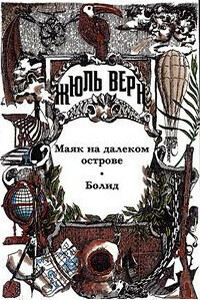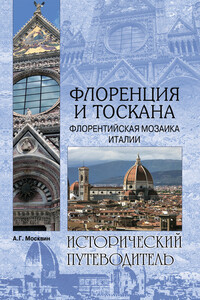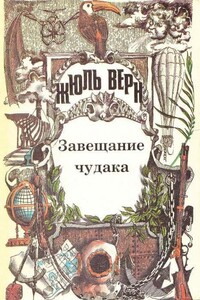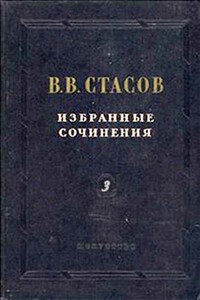В поисках идеала | страница 8
Рассказ «Вечный Адам» был впервые напечатан в посмертном сборнике «Вчера и завтра» (1910[9]). Публикация предварялась лаконичным пояснением Мишеля Верна: «Написанная Жюлем Верном в последние годы его жизни и до сих пор не изданная, новелла эта особенна тем, что приводит к заключениям достаточно пессимистичным, противоположным гордому оптимизму, одушевлявшему «Необыкновенные путешествия». Действительно, размышляя над будущим человечества, писатель за исходный пункт взял катастрофическую гипотезу, модную на рубеже веков среди представителей наук о Земле. Теперь большинство специалистов, геологов и геофизиков, не разделяет подобных взглядов. Больше того, выяснилось, что крупномасштабное погружение материкового блока в пучины океана физически невозможно: континентальная земная кора легче океанической. Но нас здесь интересует не соответствие научных воззрений великого писателя истине, а эволюция его взглядов на судьбы переживших катастрофу людей. Если прежде Верн, изображая жизнь спасшихся от кораблекрушения, активно помогал своим героям, наделяя их невероятной активностью, изобретательностью, находчивостью и деловитостью, то теперь, в конце литературного пути, усталый мэтр отказывается от вроде бы уже общепринятого тезиса, что именно созидательный творческий труд сформировал человека. Герои «Вечного Адама» не погибают в аномальных условиях; они выдерживают борьбу с немилосердной природой. Как биологический вид человечество сохраняется, но спасенные от физической гибели люди вырождаются, деградируют умственно, опустившись на много ступеней вниз по эволюционной лестнице. Подобный вывод приложим, естественно, не только к случаю мифических естественных катастроф. Его вполне допустимо использовать и в применении к прогнозам техногенных бедствий. Поэтому рассказ стоило бы рассматривать как предостережение большого мудрого писателя тем бездумным и бездушным людям (видимо, не в последнюю очередь — политикам), которые в своем необузданном эгоизме готовы подвергнуть мир опасности рукотворных катастроф.
Изложенные в рассказе идеи вполне справедливо рассматривать как один из заветов дерзновенного фантаста людям грядущего века.
Отметим еще, что некоторые, особенно новейшие, биографы «амьенского классика» прямо приписывают «Вечного Адама» сыну писателя Мишелю (такова, например, точка зрения Оливье Дюма). Другие (П. Костеллоу) выражаются осторожнее, увидев в новелле «холодное отрицание вечного Бога», что служит для них очевидным доказательством полного разрыва писателя с верой предков. Возможно, одно из последних верновских творений было только отредактировано сыном, хотя правка могла оказаться и очень существенной.