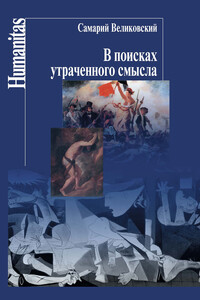Поль Элюар: вехи жизни и творчества | страница 5
Наивность мудрого в своей детской чистоте лирического взгляда на вещи, закрепленного в языке столь же простом, не засоренном шелухой клише и навязших в зубах штампов, — к этому стремится Элюар и в тогдашних стихах, составивших книги «Животные и их люди, люди и их животные» (Les animaux et leurs hommes, les homrn.es et leurs animaux, 1920), «Потребности жизни и последствия снов, предваряемые Примерами» (Les necessites de la vie et les consequences des reves precede d’Exemples, 1921), «Повторения» (Bepetitions, 1922).
На первых порах элюаровский поиск, имея своей установкой анархический разрыв с традиционным складом лирического мышления и изгнание обычной логики — самого заклятого недруга дадаистов, поскольку ее-то и пускали вчера в ход для оболванивания умов рассудительные «отцы отечества», — давал иной раз причудливо-загадочные плоды темной «языковой алхимии», как обозначали вслед за Артюром Рембо свое словесное изобретательство его продолжатели. Но рядом с этими ребусами без ключа в изобилии встречаются и подлинные находки, открытия мастера «фосфоресцирующей обыденности»[4], умеющего легким сдвигом в самом заурядном языковом обороте заново явить как бы только что сотворенной, во всей ее прелестной первозданности, совсем, казалось бы, примелькавшуюся и обезличенную жизнь. Позже Элюара не раз назовут певцом «райских» прозрений, тех моментов, когда греза о счастье словно сбывается и все кругом сияет улыбками безоблачного детства, так что вселенная выглядит средоточием прозрачной и лучистой чистоты. Такие «звездные миги» знакомы уже раннему Элюару.
Поль Элюар. Фото ок. 1920 г.
Однако в подобной одержимости небывалой чистотой помыслов, дел, слога есть и свои подвохи. Элюар их не избежал, коль скоро он вместе с товарищами по «дада» в своем «восстании духа» не останавливался и перед самыми крайними перехлестами, доходя подчас до приписывания изначальной ущербности всему земному, обремененному житейской плотью. «Однажды будет сказано, — вырвалось как-то у Т. Тзара, — что глаза, которыми смотрел мятеж, были пусты, в них не было человеческой радости»[5].
В самом деле, окрест себя молодые бунтари с их запальчивой безудержностью не желали видеть ничего или почти ничего, достойного сохранения, и в таком случае «чистота» оказывалась «не от мира сего», неким невоплощенным и невоплотимым кумиром. Упаси бог внедрить желаемое в жизнь — белоснежное платье мечты замарается, как только она коснется этой грязи. Элюар горько сетовал, что его мучительно проследовали «галлюцинации добродетели», что он ощущал себя «повешенным на дереве морали» того максималистского «нравственного абсолюта, предполагавшего недосягаемую чистоту побуждений и чувств»