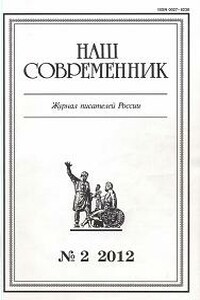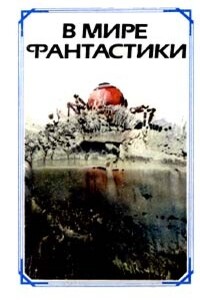Очерк и публицистика | страница 53
Что и подтвердило заявление В. Путина, сделанное им в апреле 2004 года во время его пребывания в Крыму. Так, когда был затронут болезненный вопрос о статусе русского языка, то российский президент расправился с ним одним махом, как Александр Македонский — с гордиевым узлом: «Не хочу больше распинаться на эту тему. Это внутреннее дело Украины. Рассчитываем на здравый смысл…» Что же до ещё более больного и острого вопроса о статусе Крыма и Севастополя, то и он был закрыт с той же оперативностью, притом с ловкой подменой одной проблемы совершенно другой: «Никаких препятствий со стороны России для того, чтобы поддержать исторический выбор украинского народа на (так в тексте. — К. М.) независимость, нет» («Независимая газета», 26 апреля 2004 года).
Но разве кто-нибудь из мало-мальски ответственных политологов или даже политиков посягал на права украинского народа или на его выбор? По крайней мере, я таких не знаю. Однако повернув тему подобным образом, Путин в действительности поставил под сомнение аналогичные права той части населения полуострова, с которой не сочли нужным посчитаться при распаде СССР и, к сожалению, как было ясно из самого факта этого политического жонглёрства президента РФ, не намерены считаться и впредь. Столь же очевиден был и адресат этой речи — не украинский и уж тем более не русский народ, а западные партнёры, которым таким образом посылался соответствующий сигнал. И в таком свете дежурную официальную риторику на тему расширения НАТО трудно воспринимать иначе, как всего лишь дымовую завесу, прикрывающую неуклонное отступление на западном рубеже. Что, с учётом его исключительного значения во всей истории России, особого места некогда отгремевших здесь событий в ряду «святых воспоминаний», воспетых ещё 15-летним Пушкиным, невозможно расценить иначе, как отказ и от «Воспоминаний в Царском Селе». Как забвение блистательных имён, благоговейно поминавшихся «смуглым отроком»:
На протяжении всей своей творческой жизни Пушкин не раз возвращался к этому юношескому стихотворению, что говорит об осевом, принципиальном значении для него заявленной на заре жизни темы. Последняя редакция относится к 1829 году, и в ней ещё отчетливее проступил образ хранительного для России сонма её национальных героев, вне связи с которым нет исторической жизни народа. А великая тень Суворова вновь возникает под его пером в стихотворении, до сих пор возбуждающем бурю страстей. Том, где сегодня каждая строка бьёт мощным разрядом острейшей политической актуальности — и где вопрос о твёрдости выстаивания России на западном рубеже оборачивается вопросом о её конечной исторической судьбе. Так не подобает ли и нам теперь, когда «строй твердынь» откатился далеко на восток, вспомнить о Суворове? Тем более, что только что (будь то по старому или по новому стилю) миновавшее 220-летие заключения Ясского мира, столь много давшего России и так неразрывно связанного именно с его именем, вообще никак не было отмечено в стране — ни на государственном уровне, ни либеральной, ни даже патриотической печатью.