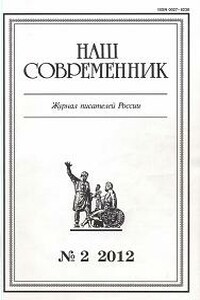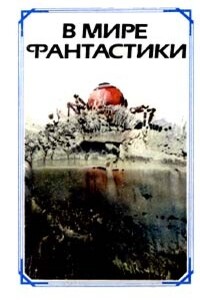Очерк и публицистика | страница 52
Это был подлинный триумф НАТО, и генерал Шихан, первым приземлившийся неподалёку от Чимкента, имел все основания заявить: «мы» (т. е. американцы, совершившие перелёт из Северной Каролины с тремя дозаправками в воздухе) доказали, что способны в кратчайшие сроки достичь любой точки земного шара. Спорить с этим, особенно в свете событий, уже ознаменовавших начало нового века, не приходится, однако, возвращаясь в конец века минувшего, можно добавить, что цепь манёвров, летом 1997 года протянувшаяся от Балтики (где, собственно, они и начались) через Чёрное море и Северное Причерноморье до Тянь-Шаня, показала, что северо-западная и юго-западная оконечности Балто-Черноморской дуги теперь ещё меньше, чем когда-либо, изолированы друг от друга. И что теперь, с учётом преимуществ, даваемых новой техникой, а также «новых условий», созданных исчезновением державы-соперницы, для Запада открываются новые же возможности связать, в режиме предельно сжатого времени, процессы, разворачивающиеся по её бывшему западному рубежу, с потоком событий на южном рубеже — на Кавказе и в Центральной (бывшей Средней) Азии. Более того: через Чёрное море связать Средиземноморье, отнюдь не теряющее своего значения одного из главных узлов мировой истории, с Центральной Азией в единое стратегическое целое, подходящее к границам Китая.
Именно он, так мало замеченный российской общественностью 1997 год, отчётливо обозначил те перспективы, которым более полно развернуться предстояло уже в первом десятилетии нового века и нового тысячелетия. Это же десятилетие показало, что ситуация, сложившаяся на западном направлении к началу нового века и тысячелетия, была отнюдь не случайным результатом множества пусть и досадных или даже роковых ошибок и плохо продуманных действий, но более всего — сознательных решений. В целом оно подтвердило линию поведения, в главных чертах выработанную в пресловутые 90-е. И это поведение всё меньше поддаётся пониманию с точки зрения долгосрочных национально-государственных интересов, хотя бы подобие внутренней логики обретая лишь в контексте сиюминутных, конъюнктурных соображений, притом всё чаще клановых и групповых. Иными словами, стратегия Москвы (если, конечно, в данном случае уместно говорить о стратегии) мало изменилась со времён «Мальты»; что же до спорадических колебаний тактики, то они по-прежнему диктуются обстоятельствами политического торга с Западом, не предполагающего даже попыток пересмотра базовых позиций.