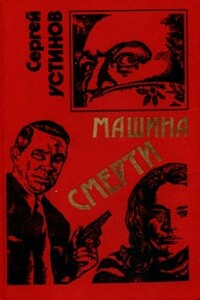Все кошки смертны, или Неодолимое желание | страница 157
― Поэтому мы и думали, что тебе кранты, ― подхватил Прокопчик. ― Малай сказал, что теперь моя очередь, я ведь единственный остался. Предложил в Пензу отправить.
Мне почудилось, от жалости к себе он вот-вот заплачет.
― А что ты? ― заинтересовался я.
― Что я? Что я? ― по-бабьи запричитал Прокопчик. ― Ты же знаешь, какой я больной человек: а тут, как на грех, еще и циклотимия обострилась...
― Цикло ― что? ― не понял я.
― Маниакально-депрессивный психоз, ― объяснил он с несчастным видом, ― причем как раз в депрессивной фазе. Все вокруг видится в черном цвете, мучают беспричинные страхи...
― Везет тебе! ― позавидовал я. ― Меня вот тоже страхи мучают ― только очень даже причинные.
― Про это уж и не говорю! ― с готовностью подхватил он. ― Влезли мы с тобой в дерьмовую историю...
― Да, ― со вздохом согласился я и спросил: ― Значит, в деревню, к тетке, в глушь, в Пензу?
― А ты? ― с робкой надеждой спросил Прокопчик. ― Поедем вместе, а? Сура, солнце, рыбалка... Отдохнем, подлечимся...
А что, подумалось, почему бы и нет? Что меня, собственно говоря, здесь держит?
Одна клиентка вовсе попросила прекратить расследование, у другого клиента есть в запасе еще один сыщик ― да вон какой бойкий, прямо на ходу подметки режет!
― Кстати, ― вяло поинтересовался я у Малого-Малая, ― ты-то как там оказался на своем мотоцикле?
― Стреляли... ― невозмутимо ответил он на манер героя «Белого солнца». Что должно было означать: не спрашивай ― и тебе не солгут.
Но что-то отразилось на моей физиономии, потому что он тут же поспешил добавить:
― У вас свои источники, у меня свои. Вы ж видели: я этого полкана еще раньше выпасал...
Черт его знает, может, это и стало последней каплей. Дожили: пензенские пинкертоны обставляют меня на моем же поле. И вообще, следует наконец честно признаться самому себе: количество уже найденных приключений превышает все допустимые нормы. По крайней мере в расчете на один квадратный сантиметр моей задницы. И особенно в свете довольно скромных финансовых достижений.
Не успела эта мысль как следует обосноваться у меня под черепушкой, а я уже почувствовал невероятное расслабление во всех членах. Ах, как хорошо, как приятно! Как расчудесно ― знать, что не придется больше куда-то срочно бежать, за кем-то следить, от кого-то прятаться!
И опять покатила на меня волной благостная расслабуха, сладкая эйфория. Будто снова вколол мне полный шприц своего волшебного снадобья ныне уже покойный товарищ подполковник действующего резерва. Смежились, как говорится, вежды, смешалась со сном неприглядная явь. И увидел я себя почему-то на песчаной косе где-то под Бердянском, куда дед привез меня в первый раз провести лето на юге. Мне четыре с половиной. Кажется, что море и песок сверкают так же неистово, как застрявшее в зените солнце. А я лежу на носу полузатопленного у самого берега старого скрипучего баркаса, свесив голову вниз, и неотрывно смотрю, как ходят кругами в прозрачной воде четыре здоровенных рыбины, названия которых я сейчас не упомню. Рыбины ходят кругами, потому что им некуда деться: они сидят на кукане ― толстой леске, продетой через рот и жабры. Мне их совсем не жалко, ведь я уже знаю: они сами хищники, едят тех рыбешек, что помельче. Я отрываю голову от воды и вижу деда ― молодого, жилистого, дочерна загорелого, в выцветших сатиновых трусах до колен. Сейчас, подмигивает он мне, сейчас! Сейчас вытащим пятую рыбину ― и айда домой! Пять рыбин ― норма, хватит на обед и на ужин! Дед весело подмигивает мне, насаживая на крючок серебряной монеткой трепещущую у него в пальцах уклейку. Уклеек мне, наоборот, ужасно жалко ― они такие маленькие, беззащитные, их и ловят-то сачком на мелководье. Но дед, заметив в первый раз слезы на моих глазах, уже успел преподать мне жестокую правду жизни: чтобы поймать большого хищника, приходится чем-то пожертвовать. Вернее, кем-то. Поэтому он сурово хмурится и твердо сжимает губы, не пытаясь оградить меня от жестокого зрелища раздираемой острым крючком ни в чем не повинной рыбешки. Я тоже знаю, что надо терпеть, надо привыкать. Это ― жизнь, как объяснял мне уже не раз дед. Но слезы сами собой жгут глаза, и я из последних сил отворачиваюсь... нет, переворачиваюсь на другой бок и утыкаюсь в пропыленную спинку дивана, пряча лицо. Не хватало еще разрыдаться на глазах нижних чинов.