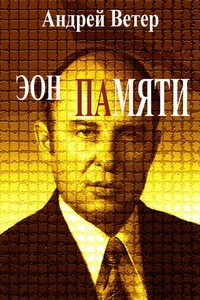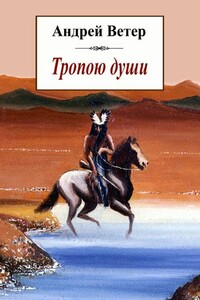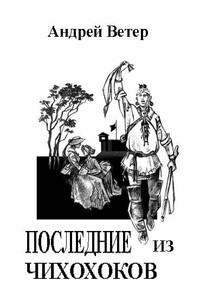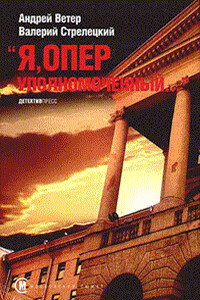Зов Ункаса | страница 11
Примитивное мировоззрение дикарей сконцентрировано именно в тех главах, где описывается ярмарка. Здесь всеми движет страсть наживы и собственной выгоды. Богатый ты или бедный – тебя тащит именно эта страсть. И она способна убивать. На ярмарке, куда мешками свозится пушнина и распродаётся за гроши, люди уже не помнят, кто они. Они теряют свою принадлежность к народу, теряют своё лицо, теряют себя.
Новый мир, называемый Цивилизацией, поглощает Традицию, и тогда вместе с Традицией исчезают Истинные Люди. И в бешеной погоне за благами этой цивилизации человек теряет не только своё лицо, но и душу.
Мне вспоминается, как в Институте этнографии выступала однажды женщина из племени Навахо. У себя на родине она в резервации преподаёт родной язык. С горечью рассказывая о том, что многие соплеменники уже не знают языка Навахов, она сказала замечательную фразу: «Мы не называем Навахом того, кто не говорит на нашем языке. Да, он живёт в нашем племени, но мы называем его просто индейцем. Он просто индеец, но не Навах». Человек без родного языка не способен быть носителем своей национальной культуры. Он просто человек. Индейцы не отказывают индейцу в праве называться индейцем, но они не видят в нём соплеменника, если он не знает родного языка. И это правильно.
МЕЧТА…
Перечитывая Курилова, я снова и снова задавался вопросом: почему же книги наших авторов, писавших о «малых народах» (то есть об индейцах) не выросли в общее направление, которое можно было бы сравнить с тем, что принято называть вестерном? Чего-то не хватает в наших книгах? Нет, дело не в сюжете, у вестернов бывают самые неожиданные сюжеты и даже формы. Возьмите, к примеру, «Маленького Большого Человека» Томаса Бергера. Там нет ничего стандартного. Даже язык – он наполнен иронией, разве кто-нибудь до Бергера позволял себе писать в таком тоне о серьёзных вещах?
Книги о наших индейцах и приехавших на их землю белых людях совсем другие. Какое-то другое у нас звучание… Настроение… Да, пожалуй, настроением наши авторы и отличаются. Любви и страсти у нас вдоволь, но беспробудной тоски куда больше. И никакой надежды.
Вестерны наполнены уверенностью, даже самые трагические истории о Дальнем Западе овеяны духом силы и несломленной гордости. Погружаясь в роман Говарда Фаста «Последняя граница», почти физически чувствуешь страдания Шайенов, решивших сбежать из резервации, устроенной в засушливой Оклахоме, обратно на землю предков, в северные равнины и горы. Перспектив у Шайенов не было, но при всей безысходности, переполняющей роман, у читателя остаётся ощущение силы, которая прямо-таки веет от Шайенов – издыхающих от долгой дороги, голода, тяжёлых ран и моральных страданий, но всё же не желающих сдаться.