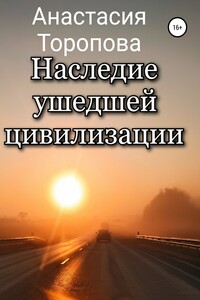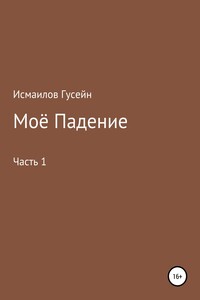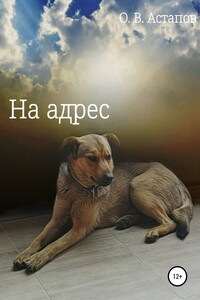Упирающаяся натура | страница 52
Ладно, посмотрим дальше, кого там ещё можно спасать. Спасти деда — значит сказать: «Мы китайцы, мы, хоть это и безумно, делаем именно так, а вы, если хотите быть умными, то и будьте, а мы будем китайцами; умных много, а китайцы одни».
Спасти внука (как поступило бы большинство из нас, пишущих и читающих эти строки), означает сказать: «Моя прапрапрабабушка читала что-то такое в Библии, про Моисея и корзинку в тростниках, вроде там это сработало. Я-то, конечно, уже больше ничем своей кровинке не помогу, но мир, говорят, не без добрых людей, бывают в нём такие египетские принцессы…»
А как бы поступил «человек без имущества», забывший, что он, допустим, китаец или, допустим, христианин и что у него есть убеждения, память, нравственные нормы? А он бы попросту спас себя.
Ну и что в этом хорошего? Где тут, спрашивается, хвалёная неиспорченность? Где этический выбор?..
…Рассуждения сии возникли у меня в голове в связи с мыслями о книгоиздательском кризисе. В лодке процесса сидят (упрощённо) трое: писатель, читатель, издатель. По уму, спасать бы надо читателя: в конце концов, если у людей сохранится потребность в чтении, они уж сами как-нибудь выродят из себя и новых писателей, и новых издателей. Спасёшь писателя — а кто его будет читать? Спасёшь издателя — а кого он будет издавать, кому втюхивать? Читателя спасать надо, вроде бы. О нём заботиться. Чтоб порядок у него был в голове и душе.
Но рациональный выбор «нравственным», «красивым» считаться не может.
Поэтому мы «спасаем писателя» — заботимся о том, чтобы у писателей в душах и головах был порядок, чтоб они писали настоящую, хорошую литературу. Дескать, была б литература в порядке, а остальное приложится: и читатели «дорастут», и издатели никуда не денутся.
Или же мы «спасаем издателя» — делаем всё для того, чтобы книгопродажа оставалась хоть сколько-то прибыльной, а если литература от этого перестанет быть литературой, и приличный человек станет шарахаться от книжного магазина, как от нехорошего места, то это и ничего, привыкнем.
Писателей спасают идеологи, а издателей — практики литпроцесса. (Идеологи — это, как правило, те, кого не берут в практики.) О читателях же не заботится никто (только о том, как использовать их «ресурс» в своих интересах).
…Теперь, если вообразить, что литературный процесс существует по тем же универсальным законам, что и процесс политический, получим следующее.
Во время политических кризисов спасать можно государственный аппарат (то есть чиновные и деловые элиты, то есть коррупцию). Это всё равно что во время экономического кризиса спасать банки, а во время литературного — издателей. Это и происходит в реальности.