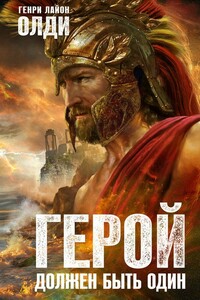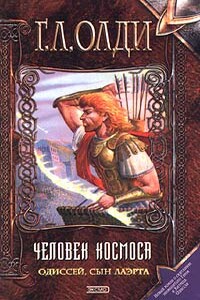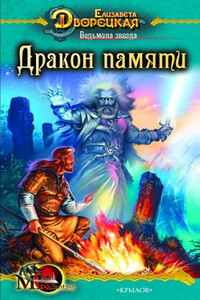Одиссей, сын Лаэрта. Человек Номоса | страница 60
Почему-то всех басилеев Ворон звал дядями. Наверное, потому что себя самого полагал незаконным сыном богини любви.
Да?!
— Тоже мне новость… — презрительно цыкнул зубом рыжий.
Он-то надеялся: может, война какая новая приключилась! А тут… Подумаешь, «дядя» Навплий-эвбеец своего сына Паламеда (спасибо Алкимовым зубодробительным урокам! имя молодого Навплида само всплыло!) женить надумал.
— Новость, да!
— Раздакался… Кто невеста хоть?
Ворон-Коракс изумленно вытаращил глаза, сверкнув белками:
— То есть как — кто?! Твоя сестра, маленький хозяин, да!
…и тут на меня накатило.
Память ты, моя память… острое чувство опасности ударило сразу, со всех сторон, без всякой видимой причины — я кожей ощутил, как скорлупа моего собственного Мироздания, скорлупа яйца, которое было моим личным Номосом, затрещала, грозя вот-вот расколоться. Треск оглушил, заполнил уши, я уже не слышал, что каркает мне Ворон; я вдруг перестал понимать его язык, чего со мной не случалось уже давно, с тех пор как… впрочем, не важно, с каких.
Не случалось!
Моему миру, всему, что было мне дорого, — и мне самому в том числе! — грозила опасность. От кого? От эвбейского басилея Навплия, которого я-маленький однажды мельком видел у отца в гостях? От его сына Паламеда, которого я не видел никогда? От предстоящей свадьбы? Помню, при этой мысли треск скорлупы, заполнявший мои несчастные уши, взревел штормовым прибоем и медленно пошел на убыль.
Я понял: это означает — «да».
Любимое Вороново словечко.
Но почему?!
— …не слышишь? Жрать пошли, да?
— Да, — словно в беспамятстве, кивнул рыжий подросток. Побрел к костру вслед за Вороном. Ноги плохо слушались, оскальзываясь на тех самых камнях, по которым только что уверенно носили своего хозяина с грузом на плечах.
Может быть, новый груз оказался куда тяжелей?
— Садись с нами, басиленок! — так, с легкой руки вездесущего Эвмея, его называли теперь и пастухи, и мореходы, и… да все, почитай, называли! Кроме эфиопа с няней.
Одиссей привык.
Моряки подвинулись, уступая место; в руки сунули дымящийся, истекающий горячим жиром ломоть баранины, предусмотрительно уложенный на тонкую ячменную лепешку. В деревянную чашу нацедили на треть вина и под взглядом бдительной Эвриклеи изрядно долили водой — куда больше, чем хотелось бы Одиссею.
Впрочем, сейчас он не обратил на это внимания.
Дружно плеснули из чаш в костер — Амфитрите-Белоногой, морским старцам Нерею с Форкием, помянули также Эола-Ветродуя — и приступили к трапезе.