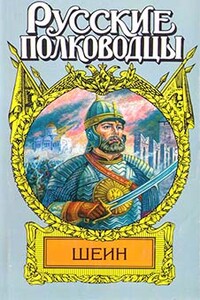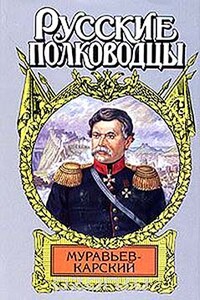День проклятий и день надежд | страница 51
Почему отец назвал савр материнским, я не знал. Для меня это было просто время цветения тюльпанов, время, когда все кругом зеленеет, поднимается к солнцу, когда можно угорелым телком носиться по первой траве, купаться в ней, как в речке.
— Я люблю саврский дождь, — вмешался я в разговор старших. Мне очень хотелось выразить свою радость.
Меня не поняли. А может, и поняли, но сочли нужным не заметить.
— К лицу ли несмышленому ягненку подавать свой голос на совете отца с матерью. Сиди и слушай, если хочешь что-нибудь узнать.
Я прикусил язык и поглубже залез под сандал.
Отец все же пояснил:
— Два дождя хамала не стоят одного дождя савра. Саврский дождь кормит бедняка весь год…
— Да сбудутся ваши слова, — закивала головой матушка. — Хоть бы всевышний не обошел бедных. Если к войне еще и вторая беда прибавится — погибнем все…
— Бог милостив, — неопределенно заключил отец. — Подарит людям светлый Навруз.
При упоминании Навруза — дня Нового года, который у мусульман совпадает с 21 марта, лицо матушки посветлело. Она заговорила радостно, молодым голосом.
— О Навруз! Бог дал его женщинам в награду за мученичество.
— Не думаю, что бог, — заметил отец. — Когда женщина открывает лицо за порогом дома — это уже грех.
— Значит, вы и одного дня свободы в году не желаете нам?
— Э-э… Нужна ли человеку свобода, тем более женщине? За свободу слишком дорого платить приходится.
— Не говорите такие слова. Пусть хоть один день люди живут с крыльями, один день летают.
Я никогда не видел матушку такой взволнованной, такой необыкновенной. Значит, есть что-то на свете, кроме «гап-гаштака», кроме тутовых плодов и бумажного змея, что способно так зажечь, так осчастливить человека! Это — свобода.
Что такое свобода? Я не понимал значения этого слова. В глубине сердца свобода смутно представлялась мне ветром, несущимся над полем, над маковками деревьев, над всем миром. Или горным потоком, низвергающимся с высот. Или вольно парящим в небе орлом. Наша шумная беготня после школы, наши крики, наши проказы тоже чем-то походили на свободу.
Но матушка говорила о другой свободе, о какой-то светлой, великой и в тоже время порождающей грех. Так сказал отец. Я помнил Навруз. День, когда все покидали дворы и выходили на поляны, в рощи, в сады, к берегу реки. Выходили нарядными, веселыми, с песнями, музыкой. Женщины снимали паранджу — там, в рощах, на воле. Об этой свободе, видимо, говорила матушка. Снова приподнялся полог, загораживавший от меня смысл всего происходящего. Щель, через которую я смотрел на мир, стала шире. Приближающийся Навруз уже иначе представлялся мне. Нет, он не потерял своей радостной привлекательности, не поблек, но наполнился чем-то незнакомо таинственным, новым и важным. И прежде всего, понятием свободы.