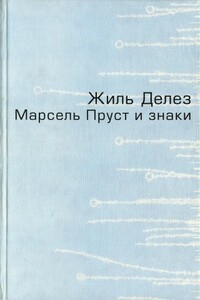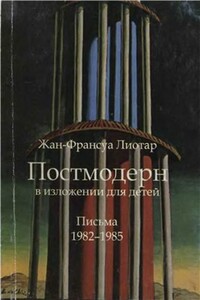Феноменология | страница 2
IV. Почему «феноменология»? — Этот термин означает исследование «феноменов», т. е. того, что является в сознании, того, что «дано». Речь идет о том, чтобы исследовать это данное, «саму вещь», которую воспринимают, о которой мыслят, о которой говорят, не образовывая при этом никаких гипотез ни об отношении, связывающем феномен с бытием, феноменом которого он и есть, ни об отношении, объединяющем его с Я, для которого он есть феномен. Не нужно исходить из кусочка воска для того, чтобы создать философию протяженной субстанции, или философию пространства, a priori выстраивающую чувственность. Нужно предоставить, без всяких предпосылок, кусочек воска самому себе и описать его так, как он себя дает. Таким образом, внутри феноменологического размышления прорисовывается некий критический момент, некое «отрицание [такой] науки» (Мерло-Понти), которая заключается в отказе перейти к объяснению: ибо объяснять красный цвет этого абажура, под сенью которого я размышляю о красном, в точности означает отказаться от этого красного, как того красного, которое нанесено на этот абажур, под чьим светом я мыслю о красном; это рассматривать его как высокочастотную вибрацию, интенсивность данных, это в точности означает поместить на место этого красного «нечто», а именно физикалистский объект, который для меня уже вообще не есть «сама вещь». Всегда имеется нечто дорефлексивное, иррефлексивное, допредикативное, т. е. то, на чем основываются рефлексия, наука и что она всегда от нее ускользает, когда выдает свои отчеты.
Вот оба лика феноменологии: сильное доверие к науке подталкивает стремление упрочить ее основания, для того чтобы упрочить все ее здание целиком, и избежать нового кризиса. Но для того чтобы реализовать это намерение, необходимо выйти за пределы самой науки и погрузиться в то, во что она «неосознанно» погружена. С этим рационалистическим намерением Гуссерль и подходит к дорациональному. Но неосторожное обращение может сделать из этого дорационального антирациональное, а из феноменологии — бастион иррационализма. Хайдеггер, пожалуй, кое-что у Гуссерля наследует, однако многое меняет. Наше изложение не будет пытаться сгладить эту двусмысленность, которая вписана в историю феноменологической школы.