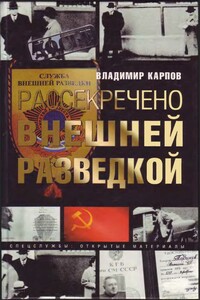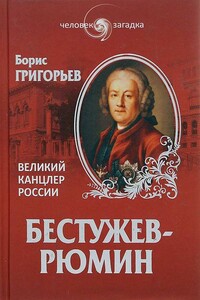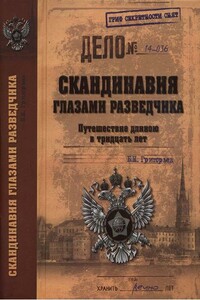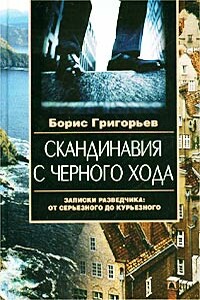Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке | страница 84
Другую несправедливость Боткин видел в том, что одни работали добросовестно, в то время как другим позволяли бездельничать. Отвращение к дипломатической работе возникало у многих на её начальном этапе, когда новичков приводили в пыльные архивы или заставляли до одури в голове переписывать многочисленные и бессмысленные бумаги. Вместо того чтобы привязывать начинающих дипломатов к одному месту, не лучше ли было провести их по всем участкам работы министерства и, прежде чем выпускать их «в поле», на работу за границу, научить как следует дипломатическому ремеслу? Конечно, Боткин был прав, а потому, когда министр Извольский начал на Певческом Мосту долгожданные реформы, он стал одним из страстных её сподвижников.
Относительная малочисленность кадрового состава МВД, закрытость его от общественности и вообще от других государственных институтов, социальная и культурная однородность в сочетании с семейной наследственностью профессии и тесными родственными горизонтальными связями, тем не менее, приводили к созданию в Министерстве иностранных дел сильного духа корпоративности. Все дипломаты чувствовали себя членами одной семьи, гордились своей принадлежностью к ней и старались поддерживать и культивировать атмосферу преемственности поколений, общности взглядов и единства целей.
В этом ничего дурного, на наш взгляд, не было. Наоборот, корпоративность помогала дипломатам находить правильные ориентиры в повседневной бурной и многовекторной жизнедеятельности, преодолевать трудности и выживать вопреки всему.
Другой характерной особенностью царских дипломатов был их интернациональный, космополитический облик. Он вполне естественно объяснялся многоликим и многонациональным кадровым составом, о чём мы уже упоминали, а также незримыми узами общности, связывавшими дипломатов всех стран. Эти узы возникли давно, до формирования наций и национального государства, когда дипломаты, не меняя подданства, свободно меняли государей и переходили из одной внешнеполитической службы в другую. Ощущение общности у дипломатических представителей разных государств оставалось даже к началу XX века.
Типичный пример космополитичного мышления и поведения приводит в своих воспоминаниях И. Я. Коростовец. При отъезде из Лиссабона он должен был передать ключи и шифры своему преемнику, секретарю русского посольства в Париже князю Радзивиллу, который в этот момент ещё продолжал носить мундир прусского улана и даже не успел оформить русского подданства! Коростовец донёс о вопиющем безобразии министру Ламздорфу. И что же? Ламздорф ответил, что придирка Коростовца «неуместна», потому что князь Радзивилл принадлежал к старинному роду, представители которого проживали в Германии, Польше и России, и что он был назначен самим государем. Следовательно, оснований для проявления к князю недоверия не было. Аргумент убийственный, и Коростовец не мог ничего противопоставить ему.