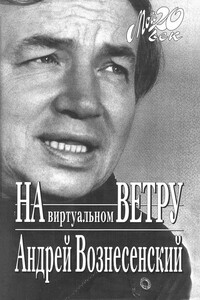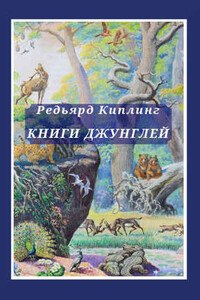Немного о себе | страница 18
Я попытался дать, пусть бледное, представление о его стиле, когда он воспарял духом, в книге «Хитрец и компания» в рассказе «Регул», но мне хотелось бы отобразить, как он воспламенился однажды при разборе большой оды «Клеопатра»[59] — двадцать седьмой строфы третьей книги. Я вывел его из себя отвратительным истолкованием первых строк. Уничтожив меня, он бросился через мой труп и дал несравненное по яркости и проницательности объяснение остальной части оды. Даже армейский класс затаил дыхание.
Должно быть, еще существуют учителя, обладающие таким же задором; и граммофонные записи уроков таких людей, на грйни профанации, бьющихся над каким-нибудь латинским стихом, для образования были бы гораздо полезнее множества печатных книг. К. научил меня ненавидеть Горация[60] в течение двух лет; потом забыть его на двадцать; потом любить его на протяжении всех остальных моих дней и в течение многих бессонных ночей.
После второго года учебы в школе у меня начался период писательства. Во время каникул те три дамы слушали — я не желал ничего большего — все, что я мог предложить их вниманию. Я многое заимствовал из книг, из «Города Страшной ночи»[61], потрясшего меня до глубины моей незрелой души, из «Притчей природы»[62] миссис Гэтги, которым я подражал и мнил себя оригинальным, из десятков других. Я совершал всевозможные нарушения формы и стихотворного размера, и мне все они нравились.
Кроме того, я обнаружил, что язвительный, насмешливый лимерик[63] сильно действует на моих товарищей, и мы с одним красноносым парнишкой капризного характера долго эксплуатировали эту идею — не без скандалов и возмущений; затем, что размер «Гайаваты» избавляет от заботы о рифме и что человек по имени Данте, живший в итальянском городке, расходился во взглядах с окружающими и для большинства тех людей изобрел впечатляющие мучения в аду, состоящем из девяти кругов, увековечил их там для грядущих столетий. К. сказал: «Он, должно быть, стал из-за этого адски ненавистным». Я взял за образец оба авторитета.
Купив толстую американскую тетрадь в тканевом переплете, я принялся писать поэму «Ад», в которой обрекал на заслуженные муки всех товарищей и большинство учителей. Она доставляла мне громадное удовлетворение, так как я мог проскандировать жертве, проходящей под окнами нашей комнаты, ее загробную участь. Потом, «как происходит с необычными вещами»[64], моя тетрадь исчезла, и я потерял интерес к размеру «Гайаваты».