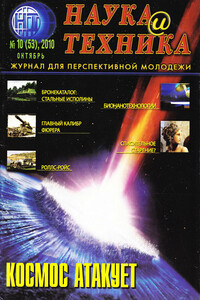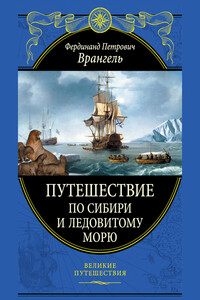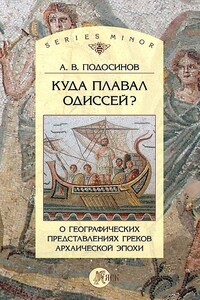Следы трав индейских | страница 6
Н. А. Волкова обнаружила и другую закономерность. В работах 40—50-х годов ссылки на находки древнейших спор звучали уверенно и количество спор в препаратах указывалось большим. В начале 60-х годов те же исследователи, описывая тот же материал, что и раньше, уже писали, что количество спор с трехлучевой щелью очень небольшое. Все чаще слышались оговорки, что, дескать, это споры мхов и других сравнительно низко организованных высших растений. Энтузиазм начал давать трещину. К концу 60-х годов «энтузиастов» почти не стало слышно.
Не надо воспринимать эту историю как некое умышленное введение в заблуждение одними учеными других, а эти другие, дескать, разоблачили очковтирателей. Дело было отнюдь не так. Заблуждение было искренним, и не честь мундира спасали те, кто продолжал настаивать на присутствии спор в древнейших, даже докембрийских, толщах. Что же касается злополучной трехлучевой щели, то за нее принимали случайные складки на микроскопических оболочках водорослей. При жизни эти оболочки были шаровидными. Попав в породу, они сплющивались, и возникала сложная, беспорядочная система складок. Найти в переплетении складок трехлучевую фигуру не сложнее, чем увидеть неведомого зверя в прихотливо изогнутом лесном корне или голову старика в силуэте одного из Красноярских столбов.
Не забыли скептики и о крупных растительных остатках из додевонских отложений. С большинством остатков разделались быстро. На них не обнаружилось никаких деталей, подтверждавших, что перед нами действительно наземные растения. Труднее пришлось с сибирским алданофитом. В 1971 г. в Новосибирске состоялась Международная палинологическая конференция, на которую съехались авторитетные и весьма скептически настроенные палеоботаники. Лучшая коллекция алданофитов хранится сейчас в Томском университете у проф. А. Р. Ананьева. Он привез несколько образцов в Новосибирск, где состоялся своеобразный консилиум. Отношение к образцам было непредвзятое, но придирчивое. Смотрели на образцы в лупу и под микроскопом, смачивали ксилолом, чтобы ярче проявились детали. Заключение было единодушным: алданофит — неизвестно, что такое. Внешне он действительно похож на некоторые палеозойские плауновидные, но никаких деталей, подтверждающих общее впечатление, не видно. Главное, что нет никаких, даже самых слабых, намеков на проводящую систему. Это может быть и водоросль, и какое-то неведомое животное.
Обсуждая вопрос о природе алданофита, участники консилиума помнили и об условиях его захоронения. Это карбонатные морские отложения, образовавшиеся в открытом море. Как могли попасть так далеко от берега остатки наземных растений и не разумно ли ждать больше их остатков в отложениях, откладывавшихся ближе к берегу? Направление, в котором проходила береговая линия этого моря, примерно известно. Но находок алданофитов больше нигде не было. В общем разошлись участники консилиума, пожимая плечами и отказываясь высказываться об алданофите хоть сколько-нибудь определенно.